Пьер Машре. К теории литературного производства
![Обложка #15-16 [Траснлит]: Труд, конфликт, сообщество (фото Вадим В. Лурье)](https://fastly.syg.ma/imgproxy/l1x_yj4Jok2dEiJvQHDlRH2tbe0MSbsoqmFuPQRTya4/aHR0cHM6Ly9mYXN0/bHkuc3lnLm1hL2F0/dGFjaG1lbnRzL2E1/MmY4M2E4MGZmNTAw/ZjgyNDY2NDczYzk0/ODAwYzdiZGZjODI5/ZWYvc3RvcmUvYjlh/NmRjNmNkMTA2ODc4/YjU2MGE1Njk4MGIx/MjAxOTVmY2Q4YmJi/YjRmODVlNzNhOTg5/ZGVmODY2NWFjL2Zp/bGUuanBlZw)
Материал опубликован в #15-16 [Траснлит]: Труд, конфликт, сообщество
Мы публикуем перевод нескольких глав из книги «К теории литературного производства» Пьера Машре. Пьер Машре (р.1938) — профессор Университета Лилль-Северная Франция, ученик Луи Альтюссера, специалист по теории литературы, а также один из главных, наряду с Антонио Негри, представителей левого спинозизма, автор монографий «Гегель или Спиноза» (1977), «Со Спинозой» (1992) и фундаментального пятитомника Введение в «Этику» Спинозы (1994–1998). Книга «К теории литературного производства» вышла в 1966 году, через год после знаменитого коллективного труда «Читать “Капитал”», где Альтюссер и его ученики (Жак Рансьер, Этьен Балибар, Роже Эстабле и сам Пьер Машре) продемонстрировали новую технику работы с теоретическими текстами, одновременно являющуюся и способом строить такие тексты — симптоматическое чтение. Симптоматическое чтение — это критическая стратегия, располагающаяся где-то между деконструкцией, психоанализом, послевоенной французской философией науки (Башляр, Кангийем и др.) и марксистским анализом идеологии. Читать симптоматически означает вычитывать «симптомы»: лакуны, пустоты, непроговоренности текста, показывая, что они и являются его основой, каркасом, придающем консистентность (на самом деле, сам Альтюссер всегда ставит слово «симптоматическое» в кавычки — речь не идет о симптомах в психоаналитическом смысле). Эти недоговоренности и пустоты не являются чем-то эмпиричным, они структурны, это не то, что книга или автор не хочет сказать, это то, что она не может сказать, но это не какая угодно невозможность, у каждой книги есть своя определенная невозможность-сказать, и книга структурируется вокруг этого определенного молчания. Читать симптоматически также означает не читать текст как некое целое: по Альтюссеру необходимо отринуть религиозный герменевтический миф Книги, обладающей полнотой собственного смысла — книга, теоретическая или художественная, это не единый смысл под покровом буквы, но и не просто множество расходящихся смыслов, она — их непрерывный неснимаемый конфликт, который и необходимо выявить.
«К теории литературного производства» — это попытка применить симптоматическое чтение непосредственно к литературе, и книга стремится решить три задачи: во-первых, показать, что в самом произведении легитимирует такой тип чтения, то есть его структурированность вокруг невысказываемого, вокруг лакун и конфликтов. Во-вторых, дать примеры такого чтения — сам Машре во второй части книги дает прочтения Бальзака и Жюля Верна и анализирует ленинские прочтения Толстого. В-третьих, показать, что значит производить, когда исходным материалом является обусловленное молчание.
Машре воюет сразу на два фронта — и со структурализмом, который лингвистизирует произведение, де-факто отказывая литературному производству в специфике и переводя его в нечто иное, чем оно само, и с герменевтикой, тотализирующей произведение в (пускай и отложенной) полноте смысла, делающей из него объект культа; вслед за Альтюссером Машре противопоставляет объяснение и интерпретацию, только первое производит действительное знание. В книге почти не встречается слово «текст»: помня о том, что 1966 год — это пик структурализма, для которого «текст» был едва ли не шибболетом, можно уверенно утверждать, что это осознанный выбор: для Машре в
Книга Машре интересна еще и тем, что придает небывало высокий статус как критике, так и самому акту чтения: с одной стороны, хотя производство-письмо и
Сергей Ермаков
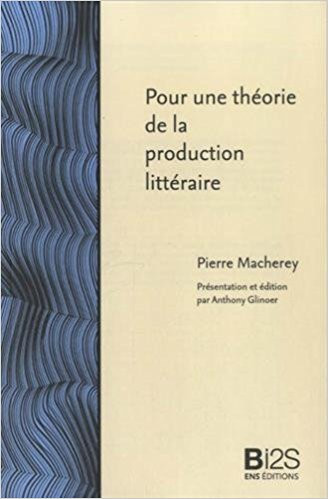
Автономия и независимость
Теперь ясно: литературный текст обладает собственной истиной, он ее содержит: никакой внешний принцип не позволяет о нем судить, поскольку такое суждение сопровождается произвольной деформацией. Но значит ли это, что истину произведения необходимо искать в нем самом, что она там помещена на вечное хранение? Познать, в таком случае, означало бы читать, читать посредством вскрывающего взгляда, который, разрывая завесу видимостей, смог бы вывести на свет тайну, — и это также означало бы критиковать в негативном рассеивающем смысле; в результате такого чтения произведение разрушается — для того, чтобы на его месте стало видимым то, вокруг чего оно построено. Надо ли повторять, что подобный ход мыслей совершенно нелегитимен, и по меньшей мере по четырем причинам: он смешивает чтение и письмо; он разлагает на части там, где следует постигать законы композиции; он полагает, что в произведении достаточно найти нечто уже данное; он сводит понимание произведения к поиску единственного смысла. В результате проблема специфичности произведения еще не получает окончательного решения: здесь мы все еще сталкиваемся со множеством иллюзий.
Что же звучит верного в речах о специфичности литературного произведения? Во-первых, что оно несводимо: оно не может быть сведено к
В числе прочего, специфичность произведения — это его автономия: оно есть правило для самого себя — в той мере, в которой оно назначает себе границы, конструируя их. Таким образом, оно не может быть понятым исходя из других норм, кроме тех, которые работают вместе с ним: принцип его необходимости не может быть гетерономным. Именно поэтому литературные произведения должны составлять объект особой науки: без нее они никогда не будут понятыми. Различные дисциплины вроде лингвистики, теории искусства, теории истории, теории идеологии, теории образований бессознательного должны способствовать этой работе (без этого сотрудничества она будет неполной и даже невозможной) — но они не могут работать вместо нее. Особенно важно помнить, что литературные тексты употребляют язык и идеологию (которые, вероятно, имеют меньше различий, чем кажется) неслыханным способом — определенным образом вырывая их из них самих, чтобы придать им другое предназначение и заставить служить реализации своих собственных замыслов.
Там, где начинается произведение, есть некий разрыв, отрезающий его от привычных способов говорения и письма и отделяющий от всех других форм выражения идеологии. Поэтому невозможно понять то, что определяет акт писателя, по аналогии сближая его с установками, пускай и на первый взгляд похожими, но на деле радикально отличными — однако именно это и делает Ролан Барт в предисловии к своим «Критическим эссе», когда определяет письмо через остраняющие правила вежливости, которым подчиняется сочинение письма по конкретному случаю2. Этот разрыв не является тем, что отделяет «искусство» от «реальности», и тем более, он не является тем истинным разрывом, который пролегает между идеологией и теоретическим познанием и удерживает их на дистанции друг от друга: речь идет не о рациональном разрыве на уровне инструментов познания, но о специфическом различии, которое определяется особым употреблением инструментов репрезентации. Автономия произведения не зависит от эпистемологического разрыва в привычном смысле слова — но
Однако нельзя смешивать автономию и независимость. Произведение вырабатывает обеспечивающее его бытием различие только устанавливая отношения с тем, что не есть оно: иначе у него не было бы никакой реальности и оно было бы нечитаемым и даже невидимым. Более того, нельзя — даже под предлогом подавления любых попыток редукции — рассматривать литературное произведение отдельно, как если бы оно само учреждало законченную реальность: оно было бы абсолютно отделено и не существовало бы никакой возможности понять основание его возникновения. Оно было бы абсолютно безосновно — мифический продукт радикальной эпифании. Хотя произведение определяет себя согласно своим собственным правилам, оно не смогло бы найти в себе способ их выработать. В обобщенном виде идея абсолютной независимости свидетельствует о мифической мысли, озабоченной установлением существования уже реализованных сущностей, но неспособной объяснить их конституирование. Но различие между двумя автономными реальностями может быть понято только если мы увидим, что оно уже является некой формой отношения, определенным способом бытия вместе. И тем более, что истинные различия никогда не даны раз и навсегда, но, будучи результатом процесса производства различия, должны беспрерывно возобновляться, завоевываться вопреки тому, что стремится их растворить. Таким образом в них раскрывается очень конкретный тип отношений, не эмпирический, но при этом не менее реальный, потому что он является продуктом труда.
Поэтому мы не должны изучать литературное произведение как если бы оно было самодостаточной тотальностью. Как мы увидим, если оно самодостаточно, то это не потому, что оно является тотальностью: гипотезы о целостности и независимости произведения совершенно необоснованны; они вызваны глубоким непониманием природы писательского труда. Например, литературное произведение связано с языком как таковым; через него — с другими типами использования языка: теоретическим и идеологическим, от которых оно напрямую зависит; посредством идеологии оно связано с историей общественных формаций; с последними оно связано и положением самого писателя так же, как и с проблемами, с которыми он сталкивается в своей собственной жизни; наконец, отдельное литературное произведение не существует вне отношения по меньшей мере с
Короче говоря, книга никогда не приходит одна: она всегда сопровождается множеством образований, лишь соотносясь с которыми она обретает форму. В этом соотношении она, таким образом, находится в явной зависимости от них, и эта зависимость не сводится к производству эффекта «по контрасту»: как и любой продукт, книга является второй реальностью, что не означает, что она не существует в силу присущих ей законов. Позже мы увидим, что именно это свойство вторичности сущностно определяет работу писателя — если верно, что его функция — это всегда пародия.
Образ и концепт: прекрасный язык и истинный язык
Предприятие писателя — с того момента, когда нас больше не влекут его эффекты, и мы, освободившись от его юрисдикции, пытаемся его познать — должно предстать перед нами в первую очередь в виде труда. Этот труд зиждется на фактичном существовании языка — мы должны будем прояснить модальности этого взаимодействия. Скажем, что писатель производит из языка (fait œuvre de langage) — это или форма языка, или форма, придаваемая языку. Но мы также знаем, что продукт писателя не является единственным произведением языка, и, следовательно, этот термин не достаточен для его определения. Публичная речь, частное письмо, беседа, журнальная статья, научный доклад и т. д. также являются языковыми произведениями, поскольку зависят от предданного наличия языка — и по отношению к языку эти произведения демонстрируют совершенно иные установки, нежели писательская. В той мере, в которой они, каждое по-своему, соответствуют требованию искренности или эффективности или даже полностью социализированного изящества, они отличаются от литературного произведения, которое традиционно причисляют к произведениям искусства и которое принципиально находится в ведении эстетического суждения. То, что эта инстанция определяет свой объект как прекрасный (по меньшей мере в рамках традиции, к которой мы теоретически все еще принадлежим³), то, что она была создана в эпоху Ренессанса писателями, что теория искусства, которой мы располагаем, по сути своей является теорией литературы (между прочим, это основа гегелевской эстетики), не решает ничего. В определенный момент писатели изобрели определенный тип легальности и подчинили себя ей — мы все еще затронуты их решением. Посвятив себя изготовлению прекрасного языка, писатели оказались на перекрестке некой природы (существование языка, который, как таковой, им дан заранее, даже если они активно участвуют в его трансформации) и условности (эстетическая юрисдикция прекрасного) и позволили возникнуть специфической, оригинальной реальности, которую необходимо определить: это литературное произведение. Вместо того, чтобы расчленять акт писателя, проецируя его на сходящиеся, но не обязательно дополняющие оси языка и искусства, необходимо задаться вопросом о специфичности такого деяния.
Язык писателя — это новый язык, новый не по форме своего материального существования, но по способу употребления. На данный момент можно сказать, что функция этого языка — создание иллюзии; его первое качество — правдоподобие; он должен быть в высшей степени способным к тому, чтобы ему верили на слово, поскольку он не может быть оценен в соотнесении с
Недостаточно просто сказать, что литературное произведение выражается на необходимом языке. На самом деле, существует множество необходимых языков: научный дискурс, благодаря своей строгой форме, также требует определенной необходимости. Эта необходимость назначает ходу мысли четко очерченные границы, относительно которых у всех ученых должно быть взаимопонимание по крайней мере в отправных точках — что они погружены в одну и ту же сферу интересов, что они говорят на одном и том же языке, а их споры упорядочиваются в соответствии с этой сопринадлежностью. Горизонт их дискурса — это определенный тип рациональности: рациональности понятия, строго заданной определениями; и мощь определения здесь такова, что даже при максимальном расхождении каждый —
Итак, горизонт литературного деяния — это не рацио, но иллюзия: поверхность его дискурса является местом, где разыгрывается некоторая иллюзия. По эту или по ту сторону от различения истинного и ложного: плотная ткань текста подчиняется предписаниям собственной логики (стилистика должна быть разделом этой логики). Мимоходом отметим, что если задать именно такие координаты места, где завязывается литературный дискурс, то уже сложно представлять работу писателя как мистификацию, производящую чистую иллюзию: если в этом месте никакая линия не отделяет истинное от ложного, то в соотнесении с чем можно было бы обнаружить обман, если не по отношению к
Однако строгость (rigueur), присущая механизму иллюзии, задается в первую очередь свойствами объектов, которые она вовлекает в свое движение. Скажут, что она нацелена не на ясные понятия, но на пленительные образы. Элементы стиля (слово, троп или композиционный прием) становятся литературной вещью в первую очередь
Итак, если взять простейший пример, то Париж в «Человеческой комедии» является литературным объектом лишь в той степени, в которой он является продуктом работы писателя — и он ей не предшествует. Но внутри самого объекта образующие его элементы и отношение, которое их объединяет, чтобы придать конкретную связность, полностью взаимозависимы. Они обретают свою «истину» друг из друга и больше не из чего. Париж Бальзака не является выражением реального Парижа, конкретным обобщением (тогда как понятие было бы абстрактным обобщением). Он является результатом изготовления, подчиняющегося требованиям не реальности, но произведения — он не отражает ни реальность, ни опыт, но артефакт. Этот артефакт целиком держится внутри сложной системы отношений, которая не позволяет отдельному элементу (образу) обрести смысл, сообразуясь с иной упорядоченностью, но лишь из того места, которое он занимает в порядке книги.
Развертывание образа есть не что иное, как исследование этого порядка, преумножающее и прописывающее каждый образ, придавая ему место в связи с другими и с ним самим. Именно это беспрерывное возобновление и дает текст — в простейшем виде оно видно, например, в отношении, которое замыкает стихотворение на его название.
Бальзак открыл в большом городе целые залежи тайн, а ведущим чувством у него становится неусыпное любопытство. Это его Муза. Он никогда ни трагичен, ни комичен. Он любопытен. Он погружается в путаницу вещей с видом человека, предчувствующего и обещающего тайну, того, кто перед вашими глазами разберет на кусочки любой механизм — живо, едко, с торжествующим удовольствием. Посмотрите, как он приближается к своим новым персонажам: он осматривает их с головы до ног, описывает, будто диковинку, ваяет, дает определения, комментирует, делает видимой каждую деталь и обещает чудеса. Его суждения, наблюдения, тирады и слова представляют собой не психологические истины, но подозрение и уловки следователя, допрос с пристрастием той тайны, которую, черт подери, надо-таки раскрыть4.
Следует понимать, что это описание гения-ищейки является не более психологическим, чем «истины», о которых она говорит, — чувство любопытства имеет здесь аллегорическое значение. Ход расследования, проводимого автором, как будто бы преследующим новый мир, представляет собой процесс остранения, лежащий в основе произведения (если воспользоваться концепцией Шкловского в отношении Толстого). И фикциональный объект не возникает один, он всегда вплетен, вписан в текст, превращающий его в индекс какой-то другой вещи, анонс следующего шага — текст беспрерывно продлевает его в
До такой обработки у образа нет никакой консистенции, он не способен удержаться сам по себе, он соскальзывает, опрокидывается, осыпается в поисках назначения, которое не может найти в себе сам. Для образа это движение развертывания, исследования является тем же, что демонстрация для понятия. Таким образом, бальзаковский Париж является аналогом книги — он пролистывается прорабатывающим его взглядом, беспрерывно отступает вглубь перед ним, давая повод для нового преследования. Это преследование конститутивно, поскольку, в конечном счете, порождает свой объект. Фикциональная реальность напрямую связана (или даже зависима) с досматривающим ее взглядом. Объект кристаллизуется в конечный момент осмотра — но он никогда не завершен, он беспрерывно ускользает от захвата неподвижным взглядом, его невозможно полностью охватить, подчинить и исчерпать, поскольку он всегда требует своего продолжения. Как мы увидим в дальнейшем, книга может не распасться лишь только потому, что она остается незавершенной — так показываемая вещь предстает неисчерпаемой. Сохраняемый в книге образ дает иллюзию реального, и он с необходимостью никогда не завершается в своем преумножении — в себе самом или в других.
Если дискурс писателя и производит эффект реальности, то это потому, что он использует сами пределы очарования образа (не позволяя ему увлечь себя, но играя с ним) — из его нескончаемости он извлекает возможность возобновления, посредством которого он чертит линию текста. И эта линия не так проста, как кажется: она должна удержать нечто от переплетения, из которого она возникает.
Способ, которым писатель употребляет образы вместе с их качествами и лакунами, обнаруживает иллюзорный характер его труда — но он не может объяснить природу этой иллюзии. В самом деле, если бы мы завершили наш анализ в этой точке, можно было бы сделать вывод, что литература есть чистая искусственность — ее можно было бы свести к функционированию определенного набора приемов.
Но позади этой чисто технической реальности необходимо увидеть использующую ее систему производства — что же именно произведение делает при помощи этих средств? Для чего они служат? Иначе говоря: какой тип строгости устанавливает эта логика образов, логика, примененная к образам, в результате которой они создают иллюзию?
Еще раз: акт писателя полностью осуществляется на уровне высказывания; он образует дискурс и сам образован только этим дискурсом; он не имеет референции ни к чему внешнему; вся его истинность или валидность кристаллизуется на тонкой поверхности этого дискурса. Однако это определение остается недостаточным — в первую очередь, потому что оно пустое, совершенно формальное. Прежде всего, всякий дискурс, даже обыденная речь, предполагает временное отсутствие того, о чем этот дискурс — дискурс откладывает его в сторону, высылает в пустыню безмолвия. Говорение — это par excellence действие, которое изменяет реальность, на которую оно направлено. «Высказать цветок» является операцией, аналогичной его срыванию: посредством нее возникает «отсутствующее в любом букете», вещь, чьи расплывчатые контуры будут контурами слова, а ее единственно возможная глубина обеспечена транзитивностью, позволяющей переходить от одного образа к другому, воспрещающей для отдельного образа любую самодостаточность5. Таким образом, реальность, высланная речевым актом за непроглядный горизонт своего проявления высказывается только вдали от себя самой, в своем отсутствии. Это свойство любого языка — образовывать собственный объект, никогда не предшествующий своей артикуляции: соответствие вещам, провозглашаемое любым дискурсом, всегда само по себе иллюзорно. В речи вещи не обретают соразмерный себе дискурс и не получают выражения — это язык говорит о самом себе, о своих формах и вещах. Склонности вещей — это склонности языка.
Таким образом, становится ясным, что дискурс писателя вовсе не имеет особой привилегии создавать иллюзии, позволявшей бы ему говорить нечто иное. Любой дискурс предполагает — временное или нет — отсутствие того, о чем этот дискурс, и размещается в свободных лакунах, откладывая то, что он высказывает. Это верно для как для повседневной речи, так и для дискурса писателя, но это верно и для научного дискурса: порядок понятий конститутивен объективно, он задает горизонт автономной реальности (что, впрочем, не значит «независимой»), управляемой особыми законами. Литературное высказывание монтирует образы (элементы, по своей природе избегающие четкого определения), а не понятия. Тем не менее, очарование образа, как мы видели, вырвано из своей привычной функции — оно используется для иных, нежели в обыденной речи, целей и должно обеспечивать постройку автономного ансамбля, т.е. литературного произведения; такая трансформация получается в результате строгого использования образов, встраивающего их в пределы необходимого текста.
Это позволяет нам сказать, что автономия дискурса писателя устанавливается исходя из его отношения к другим формам использования языка: обыденной речи, научного высказывания. Благодаря своей силе и немощности этот дискурс подражает теоретическому высказыванию, чью точную траекторию он повторяет — но никогда не воспроизводит с точностью. Но посредством своей функции вызывания к жизни, которая позволяет ему обозначать особую реальность, он также имитирует повседневный язык, то есть язык идеологии. Можно предложить тогда предварительно определение литературы, определив ее через эту пародийную функцию. Смешивая реальные употребления языка она в ходе этой непрерывной конфронтации в конце концов показывает ее истину. Скорее экспериментируя с языком, чем изобретая его, произведение является одновременно и аналогом познания, и карикатурой на устоявшуюся идеологию.
В конце концов, на краю текста мы всегда находим язык идеологии — ненадолго приглушенный, но красноречивый даже в своем отсутствии. Пародическое действие произведения лишает его кажущейся спонтанности и превращает во вторичное произведение. А в произведении разнообразные элементы,
Иллюзия и фикция
Мы определили литературный дискурс через его пародическую функцию — он не воспроизводит реальность, зато обеспечивает возможность атаки на язык. Он деформирует, а не имитирует; впрочем, понятие имитации, будучи правильно понятым, включает в себя идею деформации — если верно, как утверждает Платон в одном пассаже «Кратила, что сущность подобия — в расподоблении; образ, абсолютно соответствующий своей модели, сливается с ней и теряет свой статус образа: он остается собой только отклоняясь от того, чему он подражает; эстетика барокко лишь довела эту идею до уровня парадокса — чем больше уклоняются, тем больше подражают; в конечном счете, барокко — это теория карикатуры. И в этом смысле любая литература в конечном счете вдохновляется барокко.
Но подобное определение остается чисто негативным — и оно могло бы считаться исчерпывающим только если бы удалось показать, что дискурс писателя сам по себе негативен. Тогда можно было бы сказать, что книга, сконструированная с помощью испытанных приемов, производит не фактическую, но искусственную реальность, то есть иллюзию — до настоящего момента мы использовали именно этот термин.
Но тем самым литература свелась бы к мифологии, сооружению из знаков, которые замещают собой отсутствующую реальность. Литература обманывает в той мере, в которой вызывает к жизни и (на первый взгляд) выражает нечто — ее речь всегда блуждает на границе радикального исключения, исключения того, о чем она, как кажется, говорит, и что никаким образом не существует. В таком случае, заставляя нас принять слова за вещи (или наоборот), она была бы целиком и полностью соткана из этой лжи — радикальной, поскольку неосознанной — и предшествовала бы акту письма, как место предшествует — поджидает — то, что его займет.
Тогда можно было бы говорить о пространстве литературы, которое было бы сценой, где разыгрывается эта мистификация. Такая элизия подтачивала бы любое письмо — в лучшем случае она смогла бы показать истину его отсутствия, как это делает Малларме.
И различия, характеризующие разные типы письма, можно было бы, в конечном счете, свести к общей, принудительной для них всех, природе: они говорят, чтобы ничего не сказать. Послание писателя лишено предмета: вся его реальность заключается в особом коде, на котором оно формулируется6.
Тогда теория литературы могла бы существовать лишь в качестве обвинения и соучастия: как мы уже видели, эти акты совсем не обязательно исключают друг друга.
В данном случае писатель и критик оказываются жертвами одного и того же мифа о языке: критическая объективность выстраивает себя в болтливом согласии с фатальностью, которая также является ее основанием. Таким образом искажается теоретическая идея необходимости, в прямом смысле превращающаяся в собственную карикатуру: в серии похоронных речей «литература» лишь провозглашает отсутствие своих произведений — или же их тщетность. Произведения являются ничем: они суть это ничто, и кроме того, в этом ничто они, самое большее, являются проявлением некой сущности (литературы), чей механизм можно изучать ради него самого.
Такая концепция природы литературных произведений совершенно неудовлетворительна — особенно потому, что недооценивает роль, которую в работе писателя играет фикция. Произведение не является тканью иллюзий, которую достаточно расплести, чтобы понять ее власть. Работающая иллюзия совсем не иллюзорна и даже не обманчива. Это полностью трансформированная, прерванная, осуществленная иллюзия. Не видеть эту трансформацию означает смешивать нелитературное употребление языка, из которого изготовляется произведение, и обработку, которой он подвергается — как будто бы для письма достаточно одной лишь грезы.
Язык иллюзии, будучи материалом писательской обработки, является ничем иным, как средством и источником повседневной идеологии, вещью, которую мы носим с собой и которая делает нас самих вещами — нас влечет по бесконечному течению этого бесформенного дискурса, где один образ обменивается на другой, и мы никогда не сможем найти средний — здесь всегда исключенный — терм, который бы обеспечивал переход. Чтобы лучше понять то, что определяет привычное состояние языка, воспользуемся спинозовским описанием жизни, управляемой страстями: желание направлено на воображаемый объект и выражается в словоохотливом дискурсе, полностью погруженном в преследование отсутствия и забывшем о собственном присутствии; неадекватный, бессильный, незавершенный, рваный, пустой дискурс, брошенный на поиски исключенного центра, неспособный даже сконструировать конечную форму противоречия — нескончаемая линия, убегающая в открытость ложной перспективы. Желание, влекомое своей тщетностью, отчужденное с самого начала — всегда неутолимое и свою единственную необходимость черпающее в неудовлетворенности. Язык в бегах, в погоне за реальностью, которую он может определить лишь негативным образом — говоря о порядке, свободе, совершенстве, красоте и благе, но также о случайности и удаче. Бред, лишенная своего предмета речь, смещенная в отношении своего смысла, без субъекта, который бы мог ее произнести, — речь дезориентированная, покинутая, несостоятельная, исчезающая в своем безотчетном падении. Существование приходит к индивиду в виде весьма примитивной иллюзии, чистой грезы, задействующей набор необходимых образов — человек, свобода, божественная воля; оно сразу же воплощается в спонтанном употреблении языка, превращающем его в бесформенный, заполненный лакунами текст, беспрерывно ускользающий от себя самого, стремящийся ничего не сказать, поскольку он не создан для того, чтобы действительно высказывать нечто.
Освобождение, каким его мыслил Спиноза, устанавливает новое отношение к языку: необходимо остановить пустую речь воображения, закрепить ее, придать форму незавершенному, определить его (хотя неопределенное и зависит от
Таким образом, книга заменяет поток иллюзии, порождаемый неопределенной речью, на четкие, пускай и не простые, контуры фикции. Фикция — это определенная иллюзия: сущность литературного текста заключается в учреждении такой определенности. И таким образом смещается власть языка, водворяемая в более или менее фиксированные границы произведения. Чтобы понять, что такое литературный текст, необходимо задаться вопросом о том, вокруг какого нового центра осуществляется работа фикции. Речь не идет о реальном центре: книга не заменяет идеологическую децентрализованность иллюзии на тот или иной организованный центр, вокруг которого могла бы раз и навсегда упорядочиться система языка; и книга не обеспечивает эту систему субъектом. Фикция не несет в себе больше истины, чем иллюзия; другими словами, она не может заменить собой познание. И тем не менее, обреченная быть неадекватной, фикция находит способ пустить эту неадекватность в ход и трансформировать отношения с идеологией — не
Там, где завершается «жизнь» в своей бесформенности, начинается произведение: да, они различны и противопоставлены друг другу; но они также и нераздельны — не потому, что облицовывают разными формами одно и то содержание, а
Именно потому, что произведение содержит такую фикцию, совершенно иллюзорными оказываются любые критические подходы, которые стремятся редуцировать эту фикцию к иным типам употребления языка — внутренней речи, идеологической или коллективной речи. Более того: фиктивная, но не иллюзорная природа произведения препятствует тому, чтобы его интерпретировали, то есть переводили в формы не-литературного выражения — как мы увидим, познавать означает не интерпретировать, но объяснять.
Поэтому важно различать три формы, задающие три разных способа употребления языка: иллюзию, фикцию и теорию. По большому счету, эти дискурсы состоят практически из одних и тех же слов: но между теми же словами устанавливаются несопоставимые связи, расходящиеся настолько, что переход без разрыва между ними невозможен.
Творение и производство
Утверждать, что писатель или художник является творцом, значит ставить себя в зависимость от гуманистической идеологии. В этой идеологии человек, освобожденный от своей принадлежности к внешнему порядку, возвращен к тем возможностям, которыми он якобы обладает: подчиненный этой единственной силе, он становится изобретателем своих законов, своего порядка. Он творит. Что он творит? Человека. Гуманистическое мышление (все от человека, все для человека) закольцовано, тавтологично, целиком предано повторению одного образа. «Человек творит человека»7 — путем постоянного, безостановочного углубления он высвобождает из себя уже заранее данное произведение. Творение есть избавление.
От теологии к антропологии на поверхностном уровне происходит радикальная перемена: человек может творить лишь в непрерывности, он может лишь воплощать свои возможности. В силу самой его природы человеку недоступно производство нового.
Таким образом, антропология оказывается не чем иным, как обедненной и перевернутой теологией: на место Богочеловека ставится Человек — бог сам по себе, пережевывающий свою вечность и свою судьбу, которую он уже несет в себе. Внутри этой инверсии противоположность человека-творца — это человек отчужденный, лишенный себя самого, ставший другим. Становиться другим (быть отчужденным), становиться собой (творить) — эти две идеи эквивалентны в той мере, в какой они составляют часть одной и той же проблематики. Человек отчужденный — это человек без человека, без того Бога, которым для человека является человек.
Когда вопрос «человека» ставится так, он вступает в область неразрешимых противоречий: как человек может измениться, не становясь другим? Значит, нужно защищать его, позволять ему оставаться таким, каков он есть, — запретить всякую реальную модификацию его состояния. Гуманистическая идеология в основе своей стихийно и глубоко реакционна — как в теории, так и в практике. Во власти богочеловека оставлено единственное начинание, позволяющее ему поддерживать некую идентичность, постоянство. По закону изменить человека — это лишь вернуть ему то, что ему принадлежит, его собственность, даже если в действительности он никогда ею не обладал. «Декларация прав человека» — памятник гуманизма — представляет собой не установление, а провозглашение: в ней устраняется дистанция между человеком и его универсальными и необходимыми, вечными правами. Человек смещен по отношению к самому себе (так гуманистическая идеология объясняет «религиозное отчуждение»): чтобы все вернулось на свои места, достаточно осуществить обратную инверсию. Пагубно не само отчуждение, а лишь его направленность: достаточно лишь изменить ее, чтобы освободить заключенную в нем, но неосознаваемую истину. Следовательно, гуманизм является лишь очень поверхностной критикой религиозной идеологии: он ставит под сомнение не само идеологическое, а только одну конкретную идеологию, которую он хочет заменить другой.
Самый чистый продукт гуманизма — это религия искусства: Роже Гароди, чья цель — вернуть человеку его «перспективы», подтолкнув на «путь», который приводит в пространство без берегов8 (как если бы дело стояло только за этим), образуемых им самим, является также абсолютным идеологом художественного творчества. Вдохновившись неосторожным выражением Горького: «Эстетика — это этика будущего» (неосторожным потому, что это лишь выражение, не подкрепленное никакой аргументацией и к тому же совершенно нелепое с теоретической точки зрения), он предлагает вернуться от религии к искусству, чтобы освободить человека, не замечая, что понятое таким образом искусство есть лишь обедненная религия. Но искусство — это произведение не человека, а того, что его производит9 — и это не религия, которая неслучайно обосновалась в месте, занимаемом всеми стихийными иллюзиями стихийности, и которая как раз и есть один из видов творчества. Эти произведения принадлежат людям лишь благодаря целой цепочке уловок, и, чтобы располагать этими произведениями, они должны произвести их — не с помощью магии некоего пришествия, а посредством реально производящего труда. Если человек творит человека, то художник производит произведения, причем в определенных условиях — он рабочий не самого себя, а этой вещи, которая всячески ускользает от него и всегда принадлежит ему лишь постфактум.
Разнообразные «теории» творчества имеют одно общее свойство: они рассматривают проблему этого перехода — изготовления, — опуская саму гипотезу изготовления или производства. Творить можно непрерывно, и тогда творить — это высвобождать умение, которое парадоксальным образом уже дано; или это присутствие при видении: тогда творчество — это вторжение, богоявление, мистерия. В обоих случаях опущены способы объяснения изменения: в первом случае не произошло ничего, во втором произошло нечто необъяснимое. Все спекуляции о
По этой же причине все рассуждения о даре, о субъективности (в значении внутренней жизни) художника принципиально неинтересны.
Теперь должно быть ясно, почему на страницах этой книги слово «творчество» отсутствует и систематически заменяется на «производство».
Соглашение и договор
Произведение представляет собой цепочку фикций — строго говоря, оно не содержит ничего истинного. Однако поскольку оно является не чистой иллюзией, но удостоверенной ложью, оно требует, чтобы его считали достоверным: оно является не какой угодно иллюзией, но иллюзией определенной. Есть даже соблазн сказать, что, поскольку произведение должно восприниматься в соответствии со своей буквой, оно предполагает наличие у своего читателя устойчивой веры. Поскольку автор должен рассчитывать на это доверие, на веру, без которой произведение никогда не будет прочитано, возникает искушение говорить о соглашении, негласном обязательстве, на чьих условиях за фикцией признается право быть такой, какой она себя предъявляет, и никакой другой.
Очевидно, что следствием импортирования идеи соглашения становится отказ от изучения условий производства произведения; вместо этого задаются вопросом о коммуникации с читателями. На самом деле, обе проблемы неразделимы: мы не можем при помощи методических ухищрений, лишь имитирующих строгость, сначала замыкать произведение на самом себе, чтобы затем забросить его в мир, пытаясь убедить себя, что проблематика внутреннего-внешнего совпадает со слишком уж примитивной хронологической раскадровкой (произведение пишется до того, как читается). Вопрос состоит вовсе не в этом, слишком механическом различении — сначала произведение в себе, затем произведение для других. Разумеется, изучая литературную продукцию неизбежно сталкиваешься с проблемой ее трансмиссии. Но методическое изолирование этих проблем, отказ от их смешения (случающегося тогда, когда к существу писателя относят то, что он является своим первым читателем), не означает утверждения об их абсолютном и произвольном разделении.
На самом деле, условия коммуникации (по крайней мере, некоторые базовые условия) книги производятся одновременно с ней, а значит, они абсолютно не могут считаться чем-то уже данным или же ее предпосылкой — то, что создает книгу, также создает и читателей, даже если здесь наличны два различных процесса; иначе книга, написанная под неизвестно чью диктовку, была бы произведением самих читателей и свелась бы к простой функции иллюстрирования10. Поэтому не следует сводить проблемы, которые ставит произведение, к проблеме его распространения — короче говоря, не следует заменять мифологию творца на мифологию публики.
Литературное произведение не является простым выражением объективной исторической ситуации, которая еще до написания раз и навсегда предназначала бы его определенной публике; как известно, такое предназначение не может его сдержать:
Однако трудность заключается не в том, чтобы понять, что греческое искусство и эпос связаны с известными формами общественного развития. Трудность состоит в том, что они все еще доставляют нам художественное наслаждение и в известном отношении признаются нормой и недосягаемым образцом11.
Поэмы Гомера не возникли в убранстве фальшивой вечности — и тем не менее их никогда не перестают читать.
Надо признать, что перед нами серьезная проблема, но решение, мимоходом предложенное Марксом (современный человек, поддающийся чарам греческого искусства, — это отец, который питает слабость к собственному детству; в терминах, с которыми согласился бы Гомбрович, это зрелость в поисках незрелости, незавершенности), не может нас удовлетворить. Идеологизированный характер этого решения очевиден. И произведение может быть понято не только теми, для кого оно (по видимости) было сделано, — оно не замкнуто в пределах, заданных современным ему чтением.
Конечно, можно попытаться заменить идею объективного соглашения, которое обязывало бы автора, подчиняя его ограниченной ситуации, на идею субъективного соглашения — в меньшей степени принудительного, согласно которому между автором и его возможными читателями еще до посредничества произведения устанавливалось бы некое негласное доверие, не частное, но общее: автору будут верить на слово, читатель это обещает. Еще до возникновения произведения вокруг него очерчивается абстрактное пространство, обеспечивающее возможность отношения между его речью и теми, кто ее воспринимает. В самом деле, как мы видели, книга не высказывает ничего истинного, что могло быть оценено посредством внешних соответствий; она истинна в самой себе, то есть внутри зафиксированных вместе с ней (или ей самой) пределов. Согласно банальной концепции, которую мы лишь упомянем, читатель входит в книгу, как в другой мир; чтобы читать, он должен принять ряд эксплицитных или имплицитных пресуппозиций, в числе которых главной представляется следующая: это книга, это не что иное, как книга — иначе он будет не читать, а грезить или скучать. Впрочем, эта установка не требует согласования — достаточно, чтобы она была принята имплицитно. Специфичность книги, ее автономия, в рамках этой логики гарантируется предварительным соглашением — негласным, но всеобщим — благодаря которому учреждается место воображаемого, в котором произведение в конечном счете обретет свое место. В перспективе такого компромисса все становится дозволенным, а произвольное — истинным.
На самом деле, такая гипотеза компромисса подвергается риску двойной компрометации: во-первых, со стороны автора, отдающего свое произведение публике, во-вторых, со стороны читателя — тем же жестом, которым он открывает книгу, он компрометирует сам себя, принимая ее на веру. Поэтому мысль о соглашении возвращает нас к уже описанным формам критической иллюзии: она устанавливает между автором и читателем ложную симметрию, то есть смешение; она предполагает предшествующее книге пространство, где она обретет место (это возвращает в литературную критику принципы физики Аристотеля). Наконец, она смешивает иллюзию и фикцию, ограничивая читателя его верой и обрекая автора на произвол.
Необходимо понять, что «понятие» соглашения нелегитимно, поскольку базируется на плохо поставленной проблеме: проблематика доверия — это моральная проблематика, она не рассматривает произведение в качестве продукта литературной деятельности, но придает ему иной смысл: и прекращая читать, мы выдворяем себя на поля книги. Проблема, которую должен решить писатель, иная, нежели расплывчатое и невнятное «будут ли мне верить?», это вполне определенное: «как сделать так, чтобы быть прочитанным?» Таким образом, даже если между книгой и тем, к кому она приходит, может установиться некое сообщничество, необходимо понимать, что оно является лишь эффектом: читатель может быть влекомым инициативой автора (или тем, что он посчитает такой инициативой, — мы видели, что на деле все обстоит совершенно иначе и акт письма не зависит лишь от индивидуального решения), в которой он волей-неволей участвует; обратное же неверно. То, во что автор предлагает верить (временно воспользуемся этим выражением, несмотря на его неточность), сам он не верит — он просто не может в это верить. И добавление веры ничего не изменило бы, если бы он, как иногда выражаются, позволил увлечь себя процессом «творения». Даже если книга, то есть сконструированная фикция, разнообразно детерминирована извне реальными условиями своего производства (она автономна, но не независима), все равно она, в качестве фактично существующей книги, не предваряется никаким условием — на ее территории ей ничто не предшествует, даже обещание места, в котором она могла бы разместиться. Если бы соглашение и было налично, то только между читателем и им самим, или же между читателем и автором как своим первым и лучшим читателем.
Мы возвращаемся к уже обсуждавшемуся нами принципу: даже исчерпывающее описание установок, необходимых для чтения, не может заменять собой теорию литературного производства; если автор и мог бы быть читателем своего произведения, это означало бы, что оно уже существует — до своего производства, в виде самостоятельной модели. Напротив, внимательная критика произведения, выявляющая условия его появления, является чем-то совершенно иным, нежели чтение, поскольку, не довольствуясь оцениванием ложного соответствия в нем, она раскрывает его в различии с самим собой и в неравенстве в его развитии12.
Разумеется, это не означает, что критика нацелена на демонтаж книги, на разрушение иллюзорного в ней: изучение литературных произведений не предполагает ни слепой веры, ни принципиальной подозрительности — вера и подозрение являются двумя крайними формами одного и того же предубеждения. Познание в произведении определено антитезой убеждение-недоверие ничуть не больше, чем антитезой веры и знания — и даже если оно не дает подлинного познания, но лишь его аналог, оно само может быть объектом знания. Именно поэтому оно должно быть принято на слово: потому что в его букву не вписывается радикальное незнание. Если бы книга была лишь произволом, помещенном в абстрактном пространстве, обещанном соглашением, она была бы лишь местом недоразумения. Итак, не следует полагать, что учредить фикцию означает обманывать — писатель не является ни имитатором, ни, как в платоновском топосе, ремесленником, изготавливающим ложные подобия. Тогда он и в самом деле был бы подчинен вкусу и невежеству публики, которая принимала бы произведение лишь в пространстве своего незнания:
— Прелестным же и искусным творцом будет такой подражатель! […] Но он
Писатель не имитирует письмо — он вовлечен в реальную деятельность. Его предприятие, даже если временами и принимает видимость бреда, не является бредом — именно потому, что свершается в произведении: критика начинается там, где заканчивается клиника. «Реальность», на которую указывает книга, не произвольна, а условна — она скреплена законами. Непрозрачную идею соглашения можно было бы заменить на идею договора — тогда деятельность писателя предстала бы как подлинно учреждающая14.
Объяснение и интерпретация
Отказываясь от устаревшего мифа объяснения текста, претендующая на глубину критика ставит себе целью определение смысла — а своей функцией теперь полагает интерпретацию в широком смысле слова. В чем выигрыш от замены объяснения (отвечающего на вопрос: как сделано произведение?) на интерпретацию (зачем оно сделано?). Во-первых, считается, что тем самым расширяют поле применения критических актов: они больше не ограничены изучением средств, слепой техники — им открывается неисследованная область целей. Тем самым можно ставить принципиальные вопросы — они допрашивают не только форму литературного акта, но также и его значение.
Интерпретатор — это тот, кто, находясь в центре (точнее, посередине) осуществляет обмен: он заменяет то, что ему предлагается, на элемент такой же ценности — по крайней мере, если он работает честно. Тогда чем же он заменяет интерпретируемое, когда применяет свое искусство к литературному произведению? Он совершает обмен, который на место произведения помещает его смысл. Одним и тем же жестом он указывает сразу на две вещи: место произведения и содержание, заполняющее это место; есть соблазн сказать, что он ставит себя на место произведения, чтобы предъявить находящийся в нем смысл. Но на самом деле интерпретация осуществляет эквивалентную, но обратную операцию: она переносит произведение в комментарий и посредством этого перемещения пытается проявить неизменное и лишенное скрывающих украшений содержание. Интерпретатор создает двойника произведения — и благодаря чудесной обратимости он обретает то, двойником чего оно является.
Интерпретировать значит повторять, но это очень странное повторение, которое говорит больше, говоря меньше: очищающее повторение, в результате которого проявляется в своей истине ранее скрытый смысл. Произведение является лишь выражением этого смысла — другими словами, оно также является его оболочкой, которую следует разорвать, чтобы увидеть смысл. Это освобождающее насилие совершается интерпретатором: он разделывает произведение, чтобы переделать его по образу смысла, заставляя его напрямую означать то, что он раньше означал лишь косвенно. Интерпретировать также значит переводить: высказывать в терминах очевидности то, что содержал и сдерживал темный и неполный язык. Переводить и сводить: сводить видимую разнообразность произведения к его уникальному (единственному и незаменимому) значению. Парадоксальным образом от этой редукции хотят, чтобы она была плодородной, а не обедняющей: чтобы она добавляла к тексту такие ясность и истину, каких оно в своей буквальности парадоксальным образом лишено. Но очевидно, такое «углубление» имеет критический смысл; изобличаемое им богатство произведения является в то же время разоблачением его бедности: «было лишь это и ничего больше». Платон не имеет в виду ничего иного:
Но если лишить творения поэтов всех красок мусического искусства, тогда, думаю я, ты знаешь, как они будут выглядеть сами по себе, в таком обнаженном виде; вероятно, ты это наблюдал. […] Разве они не похожи на лица хоть и молодые, но некрасивые, так как видно, что в них нет ни кровинки?15
Произведение, сведенное к выражению смысла, рискует предстать сильно изношенным — и, чтобы выразить свою благодарность, комментатор должен будет украсить его в собственном стиле.
Итак, перед нами принципы имманентной критики: произведение удерживает в плену смысл, который следует освободить; буквальность произведения — это красноречивая и обманчивая маска, в которую наряжен смысл: познать произведение означает вернуться к этому сущностному уникальному смыслу. Интерпретирующая критика базируется на целом ряде иллюзий, которые мы уже продемонстрировали — она помещает произведение в пространстве, которое она наделяет перспективой и глубиной; она разоблачает стихийный обманчивый характер произведения, двусмысленного знака, сразу и обозначающего, и скрывающего свой смысл; наконец, она полагает, что в произведении активно присутствует единственный смысл, вокруг которого оно, пускай и
Идеал сущностной, имманентной критики, представляющей собой повторение, комментарий, «чистое» чтение совершенно неприемлем: недостаточно развязать нить текста, чтобы открыть записанное на ней послание, поскольку такая запись была бы эмпирическим фактом. Подлинное познание подразумевает разделение между дискурсом и объектом этого дискурса — оно не нацелено на повторение того, что уже сказано. Имманентная критика с необходимостью приводит к путанице, поскольку начинает с того, что отменяет принцип своего отличия. Однако понятно, почему она могла казаться самой строгой критикой: ее заявленная воля быть верной смыслу, готовность избавиться от всех изменяющих и загрязняющих его примесей, гарантирует принципиальную адекватность между произведением и его читателем. Если мы избегаем акта интерпретации, это значит, что мы спасовали перед ним или потеряли себя в произведении; это значит, что по требованию ложной объективности мы отдаем приоритет несущностному; это значит, что мы отказываемся прислушиваться к фундаментальной и неотступной тайне.
Принципиальная сложность, которую должна разрешить критика (если мы считаем ее рациональным предприятием), заключается в следующем. С одной стороны, она не может полагать, что ее объект дан ей эмпирически, иначе это будет смешением правил искусства и законов познания. Объект критического познания не расстилается перед ним в своих видимых гранях — познание этих граней предполагает предварительную обработку объекта, которая состоит не в его замещении на идеальную абстрактную конструкцию, но в его смещении относительно него самого, что и придает ему рациональный статус. С другой стороны, если познание не хочет впасть в нормативную иллюзию и судить в наивном смысле этого слова, оно может рассматривать произведение как оно есть и должно отказаться от
Объяснять — это действительно означает отбросить миф о понимании и признать в произведении обуславливающий его тип необходимости, который, разумеется, не сводит его к одному смыслу. Речь не идет о противопоставлении произведения внешнему принципу истины: вместо вынесения нормативного суждения необходимо определить конституирующий его род истины, по отношению к которому оно обретает смысл. Эта истина не хранится в произведении будто косточка в плоде — парадоксальным образом она сразу и находится внутри, и отсутствует там. В противном случае придется признать, что произведение воистину непознаваемо, что оно — чудо и тайна, а предприятие критики — тщетно.
Поэтому, чтобы развеять интерпретативную иллюзию, мы должны сформулировать методическую гипотезу в отношении природы произведения. Произведение должно быть разработано, истрактовано, иначе оно никогда не будет теоретическим фактом, объектом познания; но оно также должно быть оставлено тем, какое оно есть, иначе в его отношении будут выноситься не теоретические, а ценностные суждения. Его необходимо построить и поддерживать в его собственных границах — то есть оно не должно быть подчинено строительным действиям. Это двойное требование не имело бы никакого смысла, если бы не соответствовало природе произведения: необходимо, чтобы продукт писательского труда мог быть смещенным, иначе он останется предметом потребления, но не сможет стать объектом познания; оставшись поводом для льстивой риторики, он никогда не станет опорой для рационального вопрошания.
Чтобы выйти из замкнутого круга этих критических иллюзий, необходимо предложить теоретическую гипотезу: произведение не замыкается на один смысл, который оно скрывало бы, придавая завершенную форму. Необходимость произведения основывается на множественности его смыслов: объяснять произведения означает признавать и мочь различать принцип такого многообразия. Поэтому необходимо покончить с постулатом о единстве произведения, который всегда в более или менее явном виде преследовал предприятие критики: произведение не создается каким-то (объективным или субъективным) намерением; оно производится в определенных условиях. «У всякого произведения есть смысл, даже если он далек от того, каким его воображал автор»16 — произведение якобы наполнено смыслом и именно об этой полноте необходимо вопрошать. Но очевидно, что такое вопрошание будет иллюзорным, поскольку заимствует свою форму у скрытого красноречия, происходящего из самого произведения, и довольствуется его выражением. Подлинное вопрошание не направлено на такое квазиприсутствие; вместо идеальной полноты оно делает своим предметом пустую речь, которую произведение произносит украдкой, и измеряет в ней дистанцию, разделяющую множественные смыслы.
Поэтому следует без сомнений выявлять в произведении неполноту и бесформенность — при условии, конечно, что эти термины понимаются не в негативном или уничижительном смысле. Вместо изобилия, обеспечиваемого идеальной консистентностью, следует остановиться на определенной незавершенности, которая действительно формирует книгу. Произведение должно быть незавершенным в самом себе — но не вне себя, поскольку тогда достаточно было бы его завершить, чтобы «воплотить». Следует понимать, что сама неполнота, о которой свидетельствует столкновение различных смыслов, и является подлинным основанием внутреннего устройства произведения. Тонкая линия дискурса — это временная внешность, за которой необходимо уметь опознавать обусловленную сложность текста; разумеется, эта сложность не может быть иллюзорной и опосредованной сложностью какой-то «тотальности».
Объяснять произведение — значит не возвращаться к центру, который давал бы ему жизнь (интерпретативная иллюзия является органицистской и виталистской), но видеть его подлинную децентрацию. Это означает отказ от принципов внутреннего анализа — или имманентной критики — которые искусственно замыкают произведение в нем самом и, под предлогом того, что оно целое, дедуцируют образ «тотальности» (образы тоже дедуцируются). Свидетельствующая об этом структура произведения — это само внутреннее расхождение или же цезура, посредством которой оно соответствует некой реальности, также неполной; оно позволяет видеть эту реальность, не отражая ее. Литературное произведение демонстрирует мощь различия и дает увидеть обусловленное отсутствие: именно его оно высказывает, даже если вынуждено не говорить о нем почти ничего. Таким образом, в произведении следует видеть то, чего ему не хватает, дефект, без которого оно бы не существовало, без которого ему нечего было бы сказать, без которого отсутствовали бы даже средства сказать это или не сказать.
Как показал Ленин на примере Толстого17, объяснения в произведении требует не ложная простота, порождаемая кажущимся единством его смысла, но наличие в нем отношения или оппозиции между элементами нарратива или же композиционными уровнями, разрыва, показывающего, что оно построено вокруг конфликта смысла; этот конфликт не является признаком порчи — именно благодаря ему обнаруживается, что в произведение вписана инаковость, через которую оно вступает в отношение с тем, что не есть оно, с тем, что разыгрывается на его пределах. Объяснять произведение означает показывать, что, вопреки видимости, оно не существует само по себе, но, напротив, запечатлевает в своей букве обусловленное отсутствие, также являющееся принципом его тождественности: книга, изборожденная едва обозначенным присутствием других книг, против которых она создается, вращающаяся вокруг отсутствия, о котором она не может говорить, преследуемая отсутствием некоторых слов, к которым она непрерывно возвращается — она выстраивается, не растягивая один смысл, но исходя из несовместимости множественных смыслов, и эта несовместимость также является самой крепкой связью, скрепляющей ее с реальностью в напряженном и непрерывно возобновляемом противостоянии.
Видеть, как сделана книга, означает, в числе прочего, видеть из чего она сделана — из чего же еще, как не из изъяна, который вносит в нее история и ее отношение к истории?
Однако, следует быть осторожными, чтобы заменить идеологию интерпретации на идеологию объяснения. Для этого необходимо отбросить целый ряд постулатов, приводящих к теоретическому непониманию литературного произведения. Мы уже указали на некоторые из них: постулат красоты (произведение соответствует той или иной модели), постулат невинности (произведение самодостаточно и самим фактом своего дискурса стирает даже память об ином, нежели оно), постулат гармонии или целостности (произведение совершенно — будучи завершенным, оно образует цельный ансамбль). К этим постулатам следует добавить некоторые другие — да, иногда они могут быть несовместимыми с предыдущими, но, тем не менее, они не дают нам теоретического знания: это постулат открытости и постулат глубины.
Под предлогом выявления в произведении его теоретической незавершенности нельзя впадать в идеологию «открытого» произведения18, то есть произведения, которое при помощи композиционных ухищрений устанавливало бы принцип своей беспредельной вариации. Тогда у него был бы не один смысл, но множество — однако эта возможная и беспредельная множественность, представляющая собой качество или эффект, чья реализация вверяется читателям, не имеет ничего общего с реальной сложностью, с необходимостью конечной, которая и есть структура книги. Даже если произведение не производит и не несет в себе принцип своего закрытия, оно, тем не менее, заключено, полностью содержится в пределах, которые ему действительно принадлежат, хотя оно никогда не назначает их себе. Незавершенность произведения — это также и основание его конечности.
С другой стороны, удвоение линии текста рельефом, придаваемым ему его неполнотой, может привести к тому, что по-за произведением мы будем видеть другое произведение; второе было бы секретом первого, а первое — его маской или переводом: так мы заново впадаем в интерпретативную иллюзию. Это последнее искушение исходит из постулата глубины, вдохновляющего значительную часть традиционной критики.
Имплицитное и эксплицитное
А чтобы знать, каковы действительно их мнения, я должен был обращать больше внимания на то, как они поступают, чем на то, что они говорят, и не только потому, что вследствие испорченности наших нравов людей, готовых высказывать то, что они думают, мало, но и потому, что многие сами этого не знают; ибо поскольку действие мысли, посредством которой мы думаем о вещи, отличается от действия мысли, посредством которой мы сознаем, что думаем о ней, то они часто независимы одна от другой19.
Чтобы критический дискурс не превратился в поверхностный и ненужный дубляж произведения, необходимо, чтобы речь, отложившаяся в книге, была неполной — чтобы не все было ею удостоверено, а значит, оставалась бы возможность сказать нечто иное и иначе. Распознание в произведении или вокруг него такой теневой зоны и есть первое проявление критического намерения. Но необходимо задаться вопросом о природе этой тени — означает ли она подлинное отсутствие или же она длит некое квази-присутствие. Что можно переформулировать аналогично уже поставленному вопросу: является ли она базой для объяснения или же поводом для интерпретации?
При первом подходе мы склоняемся к утверждению, что отношение критики к произведению, на котором она базируется, это его экспликация. Но что значит эксплицировать (expliciter)? Эксплицитное относится к имплицитному так же, как объяснение (expliquer) к подразумеваемому — эти две оппозиции отсылают к различению тайного и явного, скрытого и открытого. Эксплицитно то, что формально объяснено, высказано и даже завершено: «explicit» в конце книги соответствует начинающему ее «incipit» и сообщает о том, что «теперь все сказано». Объяснять — это explicare: разворачивать и даже выставлять напоказ. «Раскрытая птица», геральдический термин, означающий орла с распростертыми крыльями. Таким образом, открывающий книгу критик — хочет ли он найти в ней зарытый клад или же увидеть, как она летит сама по себе — в любом случае собирается придать ей иной статус или даже иной вид. Можно сказать, что критическая деятельность ставит себе целью высказать истину, и, хотя эта истина связана с книгой, она не относится к ней как содержание ее высказывания. Следовательно, в книге говорится не все, и, чтобы это все было высказано, необходима экспликация критики, которая, возможно, сама будет бесконечной. Тем не менее, хотя критическая речь не произносится книгой, она в некотором смысле является ее собственностью — книга постоянно к ней отсылает, даже если не высказывает по-настоящему. Необходимо будет задаться вопросом о статусе этого молчания: случайная нерешительность или необходимость статуса? Отсюда проблема: бывают ли книги, высказывающие то, о чем они говорят, но не превращающиеся в критические книги, то есть напрямую не зависящие от других, одной или многих, книг?
Здесь легко узнается классическая проблема интерпретации скрытого смысла. Но для нашей проблематики она принимает новую форму: в самом деле, язык произведения притязает на то, чтобы быть языком полноты, источником и мерой любого сказывания. У него нет иного
горизонта, кроме самого себя, и даже в его изначальном жесте вписано закрытие. Развертываясь в замкнутом круге, этот язык раскрывает лишь себя самого — у него есть лишь его содержание и его пределы, и каждый из его терминов несет метку его «explicit». И, тем не менее, он не завершен: если присмотреться к вписанной в книгу речи, она предстанет безграничной; но она полагает своим концом именно это отсутствие окончания и размещается в нем. Лакуна, вокруг которой разворачивается книга, — это место, где все может быть сказано, а значит, никогда не говорится, но которое не может быть изменено никакой другой речью, оно замкнуто в своих окончательных границах, придаваемых его незавершенностью. Возможно, здесь причина того, что критика не может ничего добавить к сказанному книги: она могла бы, самое большее, обязать произведение говорить еще, как удваивая его, так и следуя за его дискурсом.
Тем не менее, остается очевидным, что даже если произведение самодостаточно, оно лишено собственной теории — оно ее не содержит и не порождает: оно никак не познает себя как таковое. Следовательно, говорить о нем с критической точки зрения не означает ни повторения, ни воспроизведения, ни переделывания. Это также не означает прояснения отдельных темных мест в нем — когда при помощи системы примечаний, заполняющих поля, детализируют то, чем оно не являлось. Поэтому когда критический дискурс своей исходной гипотезой (и эта гипотеза является самим условием его произнесения) полагает то, что речь произведения неполна, он, тем не менее, не предлагает его докончить, то есть удалить из него недостаточность — как если бы оно не занимало полностью свое место, и это место надо было заполнить без остатка. Мы уже видели: познание произведения не осуществляется на территории произведения, но напротив предполагает дистанцию, без которой познание и объект, смешавшись, взаимоуничтожаются; чтобы знать то, что говорит писатель, недостаточно позволить ему говорить, дать ему слово, поскольку это слово состоит из лакун и не может быть заполнено на своем собственном уровне. Более того, теоретическое исследование демонстрирует иллюзорный характер самой идеи места, в котором произведение якобы располагается. Функцией критического дискурса не является завершение книги: напротив, он обосновывается в его неполноте, производя из нее теорию; эта неполнота настолько радикальна, что никакая топика не сможет дать ей место.
Таким образом, несказанное книги не является нехваткой, которую необходимо было удовлетворить, недостачей, которую следовало бы восполнить. Речь не идет о временно несказанном, которое в конце концов могло бы исчезнуть. Напротив, необходимо признать необходимый статус несказанного книги. Например, можно показать, что то, что позволяет произведению оформиться, — это радикальная инаковость, производимая смежностью или конфликтом множества смыслов: этот конфликт не решается и не поглощается книгой, но лишь показывается в ней.
Таким образом, более или менее сложная оппозиция, структурирующая произведение, не может быть им действительно высказана — но именно она конституирует высказывание произведения и наделяет его плотью. Произведение манифестирует то, что оно не говорит, оно раскрывает его каждой своей буквой — и оно не сделано не из чего больше. Именно это молчание дает ему существование.
Говорить и не говорить
То, что говорит книга, происходит из некого молчания: ее возникновение подразумевает «присутствие» чего-то несказанного — материи, которой она придает форму, или же заднего плана, на фоне которого она обретает вид. Поэтому книга несамодостаточна: ее неотступно сопровождает некое отсутствие, без которого ее бы не было. Познание книги подразумевает высчитывание этого отсутствия.
Именно поэтому в отношении любой продукции представляется и полезным, и легитимным задаваться вопросом о том, что она молчаливо подразумевает, что она не говорит. Эксплицитное нуждается в имплицитном, как в качестве фона, так и в виде следствия — чтобы мочь высказать нечто, о многом необходимо умолчать. Именно этому отсутствию определенных слов Фрейд назначил новое место, которое он открыл и которому дал парадоксальное имя: бессознательное. Любое сказанное, чтобы быть сказанным, кутается в пласты несказанного. И вопрос состоит в том, чтобы знать, почему сам этот запрет никогда не высказывается в сказанном: можно ли его распознать до того, как возникнет желание признать его существование? Речь никак и никогда не высказывает отсутствие, возможно, она не может его высказать: подлинное отрицание (dénégation20) изгоняет даже само пустое присутствие запрещенного термина, лишая его самого статуса отсутствия.
Можно сказать, что речь становится произведением с того момента, когда она начинает порождать такое отсутствие. В каждой речи сущностно его молчание: то, что она вынуждает молчать. Молчание придает форму любой речи. Банальность?
Можем ли мы сказать об этом молчании, что оно скрыто? Тогда что оно такое: условие существования, то есть исходная точка, методическое начало — или же сущностное основание, то есть идеальное завершение, абсолютное начало, обеспечивающее намерение смыслом? Средство или же форма связности?
Можно ли заставить говорить это молчание? О чем говорит то, что не говорит? Что оно хочет сказать? В какой мере утаивание является определенным способом говорения? Или так: возможно ли вызвать в присутствие, в наше присутствие то, что само себя скрывает? Молчание как источник выражения. То, что я говорю, — это то, что я не говорю? Отсюда серьезная опасность, угрожающая тем, кто хочет высказать всё; ведь в конце концов то, что произведение не говорит, может быть им и не сокрыто — его ему просто-напросто не хватает.
Однако у отсутствия слов есть много других средств: именно оно дает речи ее конкретную ситуацию, назначая ему область, указывая на нее. Посредством той или иной речи молчание становится принципиальным центром выражения, его точкой исключительной видимости. Речь приходит к тому, что не говорит нам ничего: и мы вопрошаем молчание как раз потому, что именно оно и говорит. Молчание позволяет увидеть речь — если только речь не позволяет увидеть молчание.
Эти два способа объяснения через обращение к латентному или сокрытому не эквивалентны: второй способ придает латентности меньшую ценность, поскольку здесь через отсутствующую речь просвечивает отсутствие речи, то есть некоторое присутствие, которое достаточно высвободить. Никто никогда не оспаривал необходимость соотносить речь с тем, что ей противоположно и что позволяет ей существовать: как фигуру с ее фоном. Но этой ситуации отказывают в равновесии, сводя все к вопросу: фигура или фон? Здесь мы сталкиваемся со всеми двусмысленностями идей начала и творения. Секретное сосуществование видимого и скрытого, участие видимого в скрытом: видимое — это нечто скрытое в иной форме. Проблема состоит лишь в переходе от одного к другому.
Первое представление более глубокое — в той мере, в которой оно позволяет восстановить форму второго, не замыкаясь в механической проблематике перехода: являясь необходимым средством выражения, молчаливые глубина и фон не теряют своей значимости. Но они суть не единый смысл, но то, что придает смысл смыслу: именно они — не говоря нам ничего конкретного, ведь они и должны ничего не говорить — точно показывают нам условия проявления речи, то есть ее пределы, и таким образом, не говоря вместо нее, придают ей ее действительное значение. Латентное — промежуточное средство, но это не означает, что его нужно отбросить на задний план; это лишь означает, что оно не является другим смыслом, который чудесным образом в конце концов растворял бы первый смысл. Теперь очевидно, что смысл находится в отношении эксплицитного к имплицитному, а не с одной или с другой стороны от барьера — в последнем случае пришлось бы выбирать, то есть, как обычно, переводить или комментировать.
Важно в произведении именно то, что оно не говорит. Это не поверхностное «что оно не хочет говорить», хотя и это тоже было бы весьма интересным, и даже можно было бы выстроить метод, чья работа состояла бы в измерении молчаний, явных или нет. Нет, скорее, важно то, что оно не может сказать, поскольку именно здесь происходит производство речи, в своего рода движении к молчанию.
Коварные вопросы. По поводу всего, чему человек позволяет стать видимым, можно задаться вопросом: что он этим хочет спрятать? От чего здесь хотят отвлечь взгляд? Какой предрассудок здесь за работой? И еще: насколько утонченным может быть это притворство? И в чем именно он ошибается?21
Таковы для Ницше «коварные вопросы», «Hinterfrage» — вопросы, которые выскакивают
«Можно задаться вопросом»: Ницше вопрошает, и, еще не показав нам, как именно можно ставить вопросы, он указывает на саму необходимость их ставить — ведь вопросов множество. Объект этих вопросов — или их цель — это «всё, чему человек позволяет стать видимым». Всё: ницшевскому вопрошанию — которое совершенно отлично от допроса, поскольку, как мы увидим, в конечном счете оно само ставит себя под вопрос — присуща такая степень теоретического обобщения, что можно задаться вопросом, легитимно ли применять его к конкретной области, в нашем случае — к литературной продукции. На самом деле, то, что «становится видимым», — это произведение, любое произведение. Мы же попытаемся применить общее положение к частной области.
«То, чему человек позволяет стать видимым»: очевидно, что немецкие слова говорят здесь лучше и больше французских. Lassen: сразу и сделать, и позволить сделать, и заставить сделать. Это слово лучше любого другого означает жест — не двусмысленный, но сложный — литературного производства. Оно позволяет его увидеть — при условии, что в нем не будут выискивать черты невесть какой вызывающей магии: вдохновение, посещение22 или творение. Производить значит делать видимым и давать увидеть. Речь не идет о
К актам, которые позволяет раскрыть вопрошание, относятся: «прятать», «отвлекать взгляд» и дальше «притворяться». Очевидно, что есть порядок, связывающий все эти операции: прятать означает не делать видимым, отвлекать взгляд — это значит показывать, не давая увидеть, мешать увидеть то, что в то же самое время показывается; можно сказать иначе: видеть, не позволяя увидеть; об этом также говорит образ притворства: притворяющееся действие — тоже действие. Все происходит как будто бы со смещением акцента: произведение раскрывается себе и другим в двух разных планах: оно делает видимым и оно же делает невидимым. Дело не столько в том, что для того, чтобы показать одну вещь, необходимо не показывать другую. Дело в другом: глаз отводится от самой показываемой вещи. Это взаимоналожение говорения и высказывания: если автор не всегда высказывает то, о чем он говорит, он необязательно высказывает то, что говорит.
Далее Ницше говорит о предрассудке, а с ним возникает тема мистификации, обмана. Обманывает не та или иная речь — то, чему некто позволяет стать видимым, можно, в данном случае, назвать речью — но сам факт наличия речи: любой речи. Предрассудок — это то, о чем речь не выносит суждения, он наличен до нее, но она подает его как суждение. Предрассудок — это то, что представляет себя в виде суждения, речь, немного не дотягивающая до речи.
Однако у этого положения и вопроса двоякий смысл: речь вызывает предрассудок как суждение; но вместе с тем, самим фактом вызывания она указывает на него как на предрассудок. Она порождает аллегорию суждения. И речь существует постольку, поскольку она желает эту аллегорию, чье появление она подготавливает. Таков ее механизм видимого и невидимого, показанного и спрятанного, языка и молчания.
Теперь мы начинаем понимать смысл заключительных вопросов. «И еще»: перед нами переход на новый уровень систематического порядка, если не переворачивание. Можно было бы сказать, что здесь под вопрос ставятся первые вопросы. Этот ставящий капкан вопрос, ставит под вопрос первый вопрос, обрисовывая структуру сразу и произведения, и его критики.

Можно было бы задуматься, в какой мере первый вопрос базируется на недоразумении: даже если это притворство касается всего подряд, его, тем не менее, не следует считать тотальным и неограниченным. На деле оно — относительное молчание, зависящее от еще более молчаливой области — невозможности скрыть саму истину языка.
Разумеется, не следует видеть в этом балансировании речи ее разделение между сказанным и несказанным, которое возможно лишь потому, что зависит от фундаментальной правдивости, полноты выражения, отблеска гегелевской диалектики — той диалектики, которую Ницше (как и враг идолов Маркс) готов терпеть лишь в перевернутом виде. Тем, кто хочет любой ценой найти отсылки к этим вопросам в форме поэмы, лучше искать их в трудах Спинозы. Переход от притворства к недоразумению через решающий момент «и еще» — это также движение, позволяющее переход к третьему роду познания. И Спиноза поставил ницшевские вопросы в знаменитой книге, адресовав их книге, которая тогда считалась моделью всех книг, Писанию.
Следовательно, подлинная ловушка речи — это ее молчаливая позитивность, превращающая ее в действительно активную инстанцию — так к недоразумению приводит и тот, кто позволяет стать видимым, и тот, кто ставит первые вопросы, которые именуются критикой.
Обычный критик (тот, кто останавливается на первом вопросе) и автор одинаково далеки от настоящей оценки произведения: но есть другой критик, задающий второй вопрос.
Лабиринт двух вопросов — лабиринт наизнанку, поскольку ведет к решающему выходу — каждый раз заново ставит перед выбором между ложной и подлинной тонкостью: одна взирает на автора со стороны критика и как критик; другая судит о нем лишь заняв позицию в выразительной правдивости речи, а также его речи. И тогда произведение, вырванное из ложных пределов своего эмпирического присутствия, начинает обретать значение.
1. George Duncan Painter. Marcel Proust. Trad. George Cattaui et Roger-Paul Vial. Tallandier, 2008 [1959].
2. «Допустим, мой друг только что потерял любимого человека, и я хочу выразить ему сочувствие. Конечно, я сажусь писать ему письмо. Однако слова, которые я подбираю, меня не удовлетворяют: это лишь «фразы»: я «фразерствую» по поводу любимого человека; тогда я говорю себе, что послание, которое я отправляю другу и которое является самим моим сочувствием, может быть сведено к простым словам: мои соболезнования. Однако это отменяет саму цель моего сообщения, поскольку послание будет бесчувственным и холодным, то есть чем-то противоположным, а ведь то, что я хочу сообщить, — это само тепло моего сочувствия. Из этого следует, что если я хочу исправить свое послание (то есть как
3. В самом деле, эстетика прекрасного, возможно, и была перевернута и действительно поставлена под вопрос — например, в тот момент, когда отдельные течения романтизма или сюрреализма хотели учредить эстетику безобразного — но она не была заменена другой теорией. Если бесспорно, что сюрреализм и Бодлер осуществили фундаментальную революцию в искусстве, то они это сделали ценой значительного теоретического регресса, посредством возвращения к платонизму (другой мир). Этот регресс принес дивиденды на практике, но он не приводит к решающим сдвигам. Теория сюрреалистической революции остается делом будущего — и ее авторами точно будут не сюрреалисты.
4. Cesare Pavese. Le métier de vivre. Trad. Michel Arnauld. Paris : Gallimard, 1965 [1958]. P.45.
5. Mallarmé : Divagations, dans Œuvres complètes. Édition présentée, établie et annotée par Bertrand Marchal, Paris, Gallimard, 2003, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », vol. II, p. 81-277.
6. Именно такой тезис выдвигает Ролан Барт в Нулевой степени письма.
7. В этом смысле теоретик гуманизма — это Аристотель.
8. Аллюзия на книгу Роже Гароди «О реализме без берегов» (русский перевод: Гароди Р. О релизме без берегов: Пикассо. Сен-Джон Перс. Кафка. М.: Прогресс, 1966). (Примечание переводчика.)
9. И этот производитель не является субъектом, сосредоточенным на своем творчестве: он сам есть элемент некоей ситуации или системы.
10. Необходимое уточнение: конечно, не книга благодаря какой-то чудесной силе производит читателей. Но условия, определяющие производство книги, также определяют и формы ее коммуникации — оба этих процесса протекают вместе и в одно и то же время. Несомненно, этот вопрос требует отдельной теоретической разработки; в качестве руководящего принципа можно было бы взять следующее замечание Маркса из Grundrisse: «Поэтому не только предмет потребления, но также и способ потребления создается производством, не только объективно, но и субъективно». Маркс К. Энгельс Ф. Сочинения. Т.46. ч.1. М., 1968. С. 28.
11. Там же. С. 48.
12. Тем не менее, хотя мы и не будем обсуждать эту тему здесь, изучение установок чтения, которое могло бы стать предметом социологии культуры, очень важно — из их описания можно было бы вывести реальные, идеологические и «культурные» условия литературной коммуникации как формы признания. В отсутствии этих условий писатель не смог бы произвести ни одного текста — но его производство может в свою очередь модифицировать изначальные условия, не претендуя, однако, на то, чтобы быть достаточным для такой трансформации. В смежной области книга L’amour d’art : les musées d’art européens et leur public (Pierre Bourdieu et Alain Darbel. Paris. Edition de Minuit, 1966) является замечательным примером того, каких результатов здесь можно добиться.
13. Государство 602а-602b.
14. Тем не менее, следует помнить, что идея договора имеет лишь образную ценность, — она демонстрирует существо-вание проблемы, но не решает ее; более того, она ложна в той мере, в которой отсылает к спонтанному, индивидуальному или коллективному решению. От такой волюнтаристской мифологии можно будет избавиться только при помощи объективного исследования связей, которые объединяют или противопоставляют произведение и его публику.
15. Государство 601b.
16. Jean-Paul Sartre. Présentation. Les Temps Modernes. 1 octobre 1945, №1. P.3.
17. См. Lénine. Sur l’art et la littérature. Textes choisis et présentés par Jean— Michel Palmier. Paris, 1975.
18. Эко У. Открытое произведение. М.: Академический проект, 2004.
19. Декарт Р. Рассуждение о методе. М.: Издательство АН СССР, 1953. С. 26.
20. Словом dénégation (в отличие от обычного négation) обычно переводят фрейдовское Verneinung, отрицание-запирательство. — Прим. перев.
21. Friedrich Nietzsche. Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden. Band 3. München, 1999. S.301.
22. В оригинале — visitation. Имеется в виду духовное посещение разряда «меня посетила мысль», «меня посетило вдохновение», «дом посещают духи предков» и т.д. — Прим. перев.
Материал также опубликован на сайте [Транслит]
