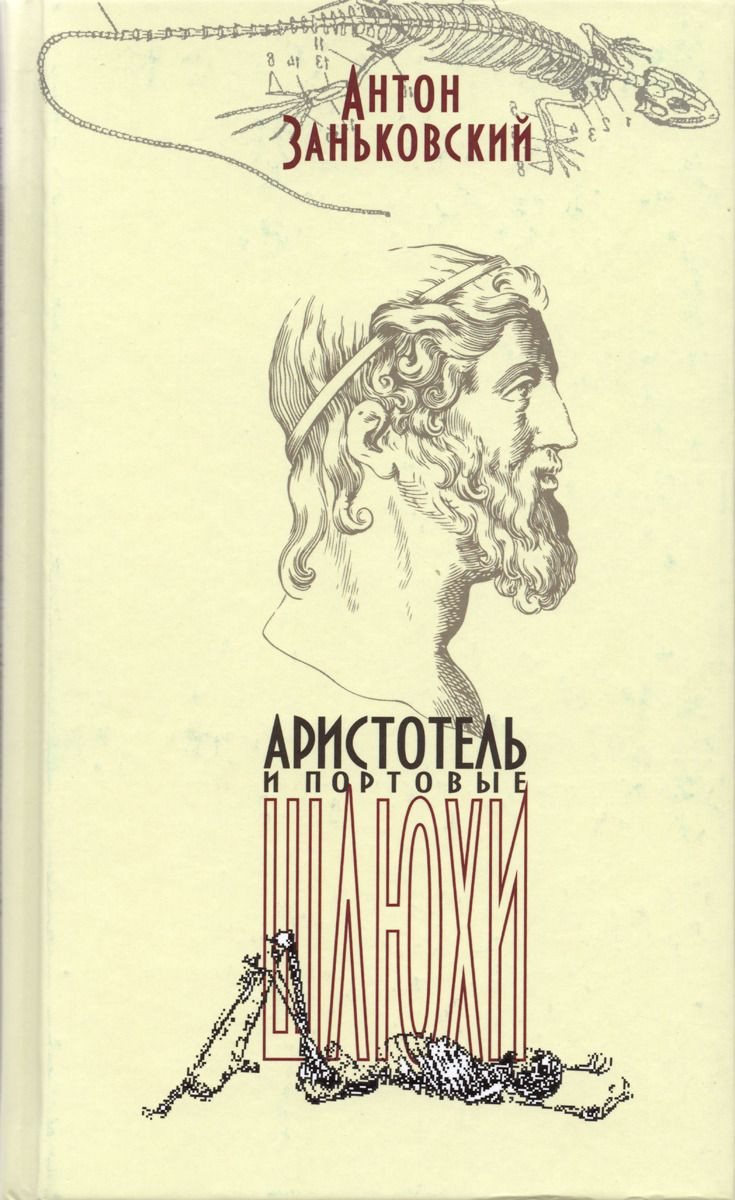Пьер Буржад в рассказе «Угри» касается проблем привилегированного доступа, становления и лишённости. Во время съёмок мужчина рассказывает обнажённой фотомодели о портовых проститутках, которые иногда развлекаются с живым угрём, засовывая его себе в различные телесные отверстия: угорь находится сразу в двух женщинах — головой и хвостом. Затем фотограф хвастается, что ему случалось заниматься любовью одновременно с двумя девушками, переходя из дырки в дырку. В ответ на это фотомодель заявляет, что мужчина никак не сможет оказаться одновременно в двух дырках, как угорь, человеческая природа мешает делать очень многое [1]. В «Метафизике» сказано: "…о лишённости говорится в различных значениях. А именно: она означает, во-первых, что нечто чего-то не имеет <…>" (Met. IX, c. 1, 1046a32-36). Фотограф оттеснён лишённостью от практик, доступных угрю. Являясь человеком, фотограф обделён привилегией угря. И только письмо способно компенсировать подобные невозможности, если рассматривать его в качестве становления, к чему призывал Делёз. Буржад, когда пишет рассказ, сам делается угрём и входит в двух портовых проституток одновременно, он пробирается за рамки фотографической отчуждённой сексуальности. В её пределах вынужден оставаться герой рассказа, фотограф, чья профессиональная практика манифестирует специфическое сексуальное лишение: физическая близость подменяется фотосессией, в которой женщина ограничивается функционалом эротической предметности, иначе говоря, опредмечивается до эротического объекта. О подобном отчуждении повествует картина Микеланджело Антониони «Фотоувеличение». Становиться угрём — значит входить в контекст «анархо-желающего» — так Ален Бадью называет субъекта, не подчиняющегося фрейдистским тяготениям, создающего собственные шизопритяжения [2]. Именно в анархо-желающем достигает полного развития демократический типаж, каким его изобразил Платон: «Изо дня в день такой человек живёт, угождая первому налетевшему на него желанию: то он пьянствует под звуки флейт, то вдруг пьёт одну только воду и изнуряет себя, то увлекается телесными упражнениями; а бывает, что нападает на него лень, и тогда ни до чего ему нет охоты. Порой он проводит время в беседах, кажущихся философскими» (Гос. 561d). Свобода, главная ценность демократического строя, формирует соответствующий тип человека. В демократе главенствует вожделеющее, лабильное [3] начало. Вожделения, по Платону, могут быть благими и низменными, но человек демократического типа отрицает иерархию вожделений. В «Тысяча плато» Делёз и Гваттари интенсифицируют демократическую идею свободы: освобождению подвергается само бессознательное, обычно зажатое в тисках определённых структур, направляющих поток желаний. Сам организм — как функционирующий по определённым законам аппарат — оказывается вне демократического модуса: конкретная телесная организация подразумевает иерархичность, функционализм, следовательно — репрессивна. Новое тело без органов позволяет сбросить диктатуру организма и перейти к свободной процессуальности бессознательного: «Это более не функционирующий организм, а конструирующееся ТбО. Нет больше действий, которые надо объяснять, нет снов или фантазмов, которые надо интерпретировать, воспоминаний детства, которые надо вспоминать, слов, которые надо означивать, а есть цвета и звуки, становления и интенсивности <…> Нет больше Самости, которая чувствует, действует и вспоминает, а есть «светящийся туман, тёмно-жёлтая дымка», обладающая аффектами и претерпевающая движения, скорости» [4]. Чтобы стать телом без органов, нужно экспериментировать. Это может быть наркотический, мазохистский или аскетический эксперимент, но главное, что тело, как организм, и существо, как субъект, утрачивают репрессивную функциональность: "Почему бы не ходить на голове, не петь брюшной полостью, не видеть кожей, не дышать животом, Простая Вещь, Сущность, наполненное Тело, неподвижный Вояж, Анорексия, кожное Зрение, Йога, Кришна, Love , экспериментирование» [5]. Главное — устранить заданную целесообразность органов: части тела надо использовать не по назначению, и при этом они не должны приобретать постоянных новых функций и привязанностей. Речь идёт о новой картине тела, отрицающей аристотелевскую онтологию: «Поскольку же всякое тело целесообразно, оно не исчерпывается тем, что это просто вода или огонь, так же как мясо и внутренности не просто мясо и внутренности. Ещё в большей мере относится это к лицу и руке. Всё определено своим делом, или назначением, всё истинно существует, если способно выполнять это своё дело» (Метеоролог. 390а10). Например, известные отверстия не предназначены для того, чтобы вводить в них живого угря. Но именно здесь ТбО соприкасается с духовными практиками: йог всасывает воду задним проходом (Джала Басти), засовывает язык в переносицу до межбровья (Кхечари-мудра), вводит катетер в уретру (Ваджроли-мудра). XVI веке бенедиктинский монастырь во Фрицларе ввел праздник пяти ран Христа: раны на запястьях, ступнях и в боку; кроме того, почитали «тайные муки»: заключение в темницу вслед за бичеванием, рана от несения креста на плече, срывание одежд, уязвление языка, увенчание терновым венцом и т.д. — Так возникает карта новых телесных интенсивностей, связанных с болью, лишением и священным. Муки становятся предметом особого культа. Детализация страданий Христа позволяет глубже прочувствовать его мучения, принять их на себя. Случаи стигматизации говорили об усиленной сопричастности страданиям богочеловека [6]. Здесь человеческое тело не сводится к функционирующему организму, тело входит в контекст божественной истории, оно соотносится с удалённым; рана, т.е. лишённость, утрата материей формы, в свете сотериологии становится важнее цельности, воздержание от пищи, пост — важнее, чем отлаженная работа пищеварения. С другой стороны, несмотря на частые случаи явного членовредительства, христианская культура не стремится просто уничтожить плоть. Скорее речь идёт о своеобразном ухищрении, когда разрушительная сила steresis используется для сотериологических целей, поэтому Тертулиан утверждает, что плоть — это якорь спасения. Аквинат наделяет лишённость особым статусом, касаясь апофатического метода: хотя в Боге нет никакой лишённости, он познаётся через отрицания качеств. Богу приписываются некоторые виды лишённости: бестелесность, бесконечность и т.д. Получается, что лишённость, онтологическое начало, прямо противоположное божественному качеству постоянства, является необходимым условием богопознания.
В главе «Как сделаться телом без органов?» («Тысяча плато»), Делёз поначалу много рассуждает о наркотиках и мазохизме, он говорит, что ТбО заставляет «…зашивать глаза, анус, уретру, груди, нос; оно заставляет подвешивать себя, дабы остановить осуществление органов, сдирать кожу, будто органы приросли к ней, драть себя в задницу, душить, дабы всё было наглухо порено» [7]. Но потом Делёз вдруг спрашивает: «Откуда такая мрачная когорта зашитых, остекленевших, кататонических, высосанных тел, ведь ТбО наполнено также радостью, восторгом, танцем?» [8]. И после этого он заводит речь о китайской сексуальной алхимии, рассматривая её в качестве одной из техник ТбО. Ракурс меняется: тело без органов — это не только деструктивные эксперименты, но любое телесное предприятие, нарушающее предсказуемую функциональность. В том числе секс без эякуляции, способный превратить обыденный организм в машину мощи. Китайский алхимик, следующий путём «внутренних покоев», соответствует плану ТбО: половой акт, лишённый эякуляции, создаёт новую картографию с новыми зонами интенсивностей. В итоге адепт должен достичь бессмертия. Даосский бессмертный (сянь) отличается вычурной телесностью: «…у него заостряются или перемещаются на макушку уши <…>, становятся квадратными или двойными зрачки, тело покрывается чешуей, шерстью или перьями, и т. д.» [9]
Луций приезжает в Фессалию, на родину магического искусства, где каждая вещь может внезапно во что-то превратиться. Луций зачарован, ему кажется, что деревья, птицы и камни — это заколдованные люди, а ключевая вода — кровь. В Фессалии всё находится в той древней неопределённости, против которой впервые сознательно выступил Стагирит. Кукушка Аристотеля своим клювом разъединила вещи. «Кукушка, — читаем мы в шестой книге «Истории животных», — как утверждают некоторые, возникает путем изменения из ястреба, так как тот ястреб, на которого она похожа, в это время исчезает. Да и прочих ястребов почти не видно, разве только короткое время, как скоро кукушка начинает куковать; сама кукушка показывается на короткое время летом, а зимой исчезает» [10]. — Здесь Аристотель приводит расхожее мнение, но потом вдруг что-то заставляет его усомниться: «Но ястреб птица с кривыми когтями, а кукушка кривых когтей не имеет, да и головой она не похожа на ястреба, но обеими частями скорее похожа на голубя, чем на ястреба. Только по окраске она схожа с ястребом, с той разницей, что пестрота ястреба полосатая, а кукушки точечная. Величина же и полет таковы, как у самого малого из ястребов, который обыкновенно невидим в то время, когда появляется кукушка, хотя их видали и вместе. [Иногда] ястреб пожирает кукушку, хотя из птиц одного рода ни одна не делает этого» [11]. — Рационализируя таким способом, Аристотель смыкает телесность, конкретизирует вещность, сворачивает с пути свободных метаморфоз. В аристотелевской онтологии превращения допустимы, но совсем другого характера: речь уже не идет о модусах единой субстанции, как в случае даосского Великого Кома (да куай) и Сфайроса Эмпедокла [12], Аристотель говорит о дискретных онтологических состояниях: утрачивая свою форму, существо полностью становится другим существом, от прежнего остаётся лишь материальный субстрат. Кукушка — это строго не ястреб, а древний китаец, становясь печенью крысы, в каком-то смысле продолжается в ней, в каком-то смысле он всегда был печенью крысы [13]. Аристотелевские формы не могут проявляться сразу, например, стол не может быть одновременно домом [14]. И здесь гилеморфизм выступает против детей и муравьёв, для которых стол становится жилищем, не утрачивая своей формы: нужно всего лишь рассыпать сахар или спустить скатерть. For example, как яйцо становится цыплёнком, согласно Аристотелю? — оно разрушается, утрачивает себя с помощью steresis. Можно ли представить вещь, которая была бы одновременно яйцом и цыплёнком? Такими вещами были Великий Ком, Сфайрос, сингулярное состояние вселенной и то, что преодолевает, как «всегда то же самое, то же самое, то же самое» [15], так и Бафомета. Ведь во всегда то же самом, то же самом, то же самом не может быть изменчивости, случайности, а в Бафомете (согласно Пьеру Клоссовски) — постоянства, необходимости, зато в Великом Коме должны наличествовать оба начала.
С одной стороны, метаморфозу невозможно помыслить без некоторого размягчения предметности, без общей подосновы, обеспечивающей субстративное единство внутри объектного разнообразия; c другой стороны, вещь не должна совсем растворяться в однородной гуще, в динамической слизи, о которой пишет Бен Вудард, одержимый ужасами аристотелевской онтологии. Если Харман грезит едиными, суверенными вещами, бытие которых нельзя свести к отношениям, совокупности признаков, к некоему архэ, то Вудард мучается кошмаром, где исчезает всякая оформленность, где вещи растекаются в недифференцированное, в слизь, кишащую и болезнетворную. Оба спекулятивных реалиста не могут вырваться из лап перипатетической кукушки. Чтобы состоялось превращение, надо культивировать срединный путь: вещь должна обладать индивидуальностью, но при этом быть способной к трансмутации. Крайности Хармана и Вударда сводятся к дуализму текучести-окаменения, внутри которого нет места реальному потоку становлений. Бергсон утверждал, что "…нужно использовать всё — и текучее, и уплотнённое (первое даже более, чем второе), — чтобы постичь внутреннее движение жизни" [16].
[1] Буржад П. Механический эрос. Тверь: Kolonna Publications, 2007. С. 73-75.
[2] Alain Badiou. Paris, Hachette, 1997, p.8.
[3] Проблема лабильности интересно преломляется у Прокла, который заостряет на ней внимание и отделяет от лишённости. Для Прокла лишённость не является злом, т.к. отсутствие всякой формы — это небытие, а для зла необходимо существование. Если у Плотина материя, лабильность и лишённость сливаются в одно негативное начало, то Прокл не признаёт, что материя и лишённость — это однозначно зло, а говорит, что материя не благо и не зло, она неопределённа, изменчива — и такого рода лабильность становится в метафизике Прокла самостоятельной причиной зла.
[4] Делёз Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. Тысяча плато. М.: Астрель, 2010. С. 270.
[5] Там же. С. 250.
[6] См.: История тела: В 3-х т. Т.1: От Ренессанса до эпохи Просвещения. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 44-48.
[7] Делёз Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. Тысяча плато. М.: Астрель, 2010. С. 250.
[8] Там же.
[9] Торчинов Е. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. СПб.: Азбука-классика, 2007. С. 123.
[10] Аристотель. История животных. М.: РГГУ, 1996. С. 245.
[11] Там же.
[12] Эмпедокл создаёт небезынтересную картину тела: из первичной грязи сначала возникли отдельные органы, обрывки: головы ходили без шеи, руки двигались без плеч, глаза блуждали без лица. Не было никаких целесообразных организмов: все совокуплялись кое–как и носились в пространстве, но в итоге победили наиболее живучие сборки органов.
[13] «Его жена и дети стояли вокруг него и громко рыдали. Цзы-Ли отправился проститься с ним и, войдя в его дом, крикнул тем, кто оплакивал умирающего: "Эй вы, прочь с дороги! Не мешайте свершаться переменам!» Потом он прислонился к двери и заговорил с Цзы-Лаем: «Как грандиозен путь превращения вещей! Чело только не сотворят из тебя нынче! Куда только не заведут тебя перемены! Быть может, ты превратишься в печень крысы? Или в лапку насекомого?» (Чжуан-цзы. Ле-цзы. М.: Мысль, 1995. С. 99.
[14] Эту проблему подняли схоласты-плюралисты, которые признавали множественность сущностных форм (формы телесности): так они объясняли, почему вещь, утрачивая одну форму, не превращается в первоматерию, а способна видоизменяться. Но Фома Аквинский отверг эту теорию, утвердив учение о субстанциальном единстве, т.к. множественность форм якобы противоречит психофизической целостности человека и его индивидуальному бессмертию. Оппоненты томизма выдвинули трупный аргумент: если человек обладает лишь одной субстанциальной формой (душой), отчего тогда тело после смерти тотчас не распадается? Очевидно, что труп обладает какой-то формой, а это значит, что, помимо душевной формы, человек наделён ещё и формой телесности, которая сохраняется в трупе. Подробней об этом см. статью: Вдовина Г.В. «Живое и мёртвое»: схоласты XVII в. о душе и теле // Философский журнал. №4. 2015. Т. 8. №3. С. 49 -53.
[15] Как мы помним, Блаженный Августин так определяет природу Бога: «Господи, Ты не бываешь то одним, то другим, то по-одному, то по-другому: Ты всегда то же самое, то же самое…» (Августин Аврелий. Исповедь. СПб.: Наука, 2013. С. 216).
[16] Бергсон А. Творческая эволюция. М.: Терра-Книжный клуб, 2001. С. 77.