Марк Фишер. Вне времени и вне пространства: Лавкрафт и странное
Этот перевод делался, когда странное, страшное и жуткое не стало очевидной частью повседневной реальности. Теперь многие вещи в нём читаются иначе — что-то приблизилось, что-то отдалилось. В этой главе из книги Марка Фишера «The Weird And The Eerie» рассказывается о преломлениях странного в работах Лавкрафта, о преодолении времени и пространства, о несоразмерности человека перед покровом ужаса, о странном в реальности и реальности внешнего в странном, которая легко преодолевает прежние идеи о пограничном опыте.
Предыдущую главу (введение) можно прочитать здесь.
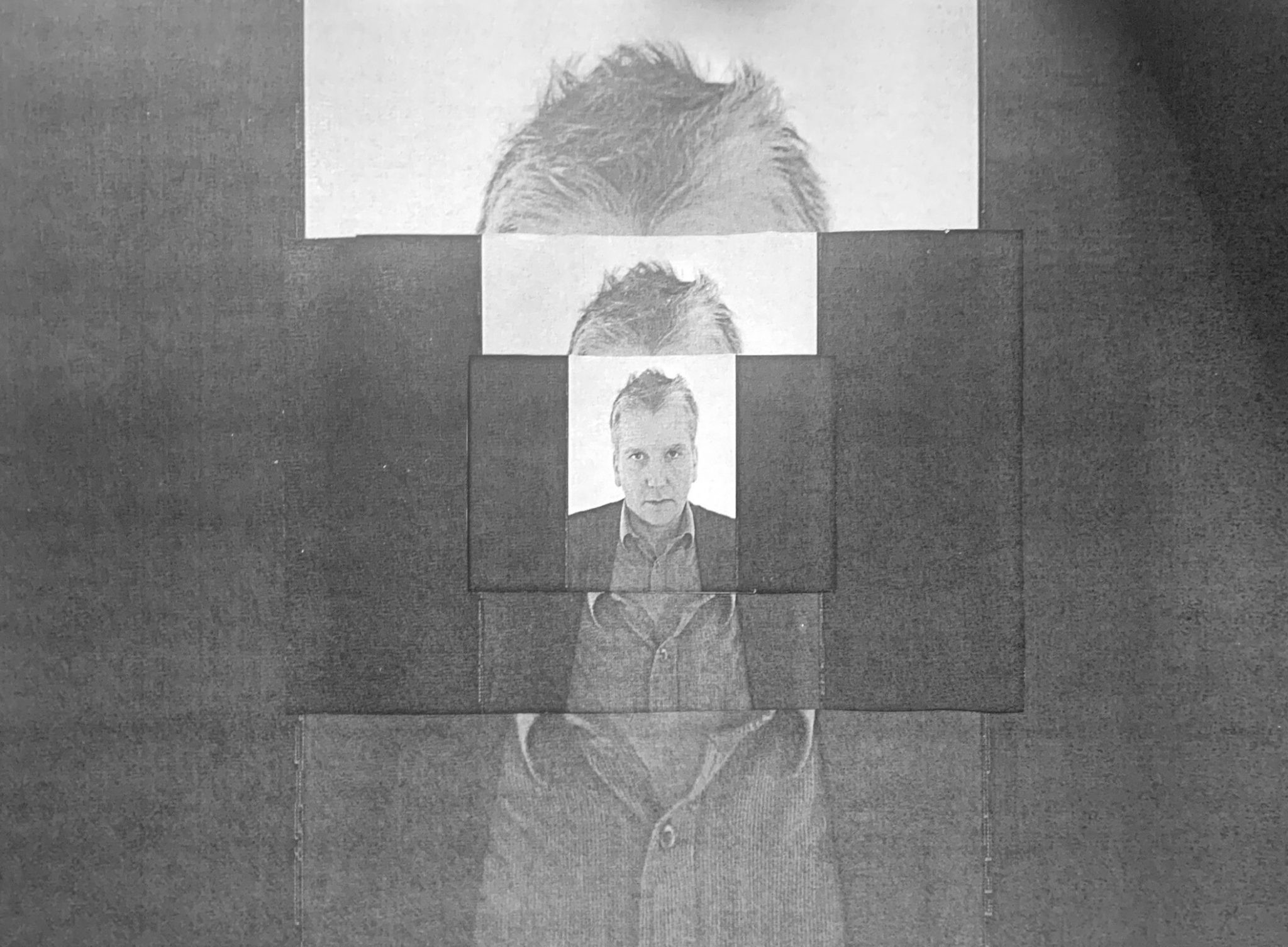
Странное — это что? Когда мы говорим, что что-то является странным, какое чувство мы подразумеваем? Я хочу доказать, что странное — это особый вид удивления. Он связан с ощущением неправильности — странное существо или странный объект настолько странны, что заставляют нас чувствовать подозрение: ведь они не должны существовать или, по крайней мере, они не должны существовать здесь. И все же, если существо или объект находятся здесь, то категории, которые мы использовали прежде для понимания мира, больше не работают. В конце концов, само странное не является неправильным — напротив, это наши представления должны стать такими же странными.
Дефиниции из словарей не сильно помогают в определении «странного». Некоторые из них сразу ссылаются на сверхъестественное, однако ведь совсем не очевидно, что все сверхъестественные сущности должны быть странными. Во многих отношениях черная дыра является более странным и загадочным явлением, чем вампир. Конечно, когда дело доходит до художественной литературы, очень большая популярность вампиров и оборотней лишает их способности вызывать какое-либо ощущение странности. Мы уже всё знаем, нам известен набор инструментов для интерпретации и рассказывания историй о вампирах или оборотнях. Эти существа просто эмпирически чудовищны; их внешний вид рекомбинирует элементы из уже известного нам мира природы. В то же время сам факт того, что они являются сверхъестественными существами, означает, что любая странность, которой они обладают, теперь приписывается царству за пределами природы. Сравните это с черной дырой: причудливые способы, которыми она искривляет пространство и время, полностью выходят за рамки нашего обычного опыта, и все же черная дыра принадлежит к
Такая интуиция вдохновляла странную прозу (weird fiction) Лавкрафта. «Теперь все мои рассказы основаны на принципиальной предпосылке: общечеловеческие законы, интересы и эмоции не имеют никакой силы или значения в огромном космосе», — писал Лавкрафт издателю журнала «Weird Tales» в 1927 году. «Чтобы постичь суть внешней реальности — времени, пространства или их измерения — нужно забыть, что органическая жизнь, добро и зло, любовь и ненависть и все подобные локальные признаки ничтожной и временной общности, называемой человечеством, вообще существуют». Именно это качество «реального внешнего» имеет решающее значение для странного.
Любое обсуждение текстов в жанре странной прозы должно начинаться с Лавкрафта. В рассказах, опубликованных в бульварных журналах, Лавкрафт практически изобрел этот жанр, разработав формулу, которую можно отличить как от фэнтези, так и от фантастики с элементами хоррора. Рассказы Лавкрафта одержимо зациклены на вопросе внешнего: внешнего, которое прорывается к нам через встречи с аномальными явлениями из глубокого прошлого, в измененных состояниях сознания, в причудливых поворотах темпоральных структур. Столкновение с внешним миром часто заканчивается срывом и психозом. Рассказы Лавкрафта нередко связаны с катастрофической интеграцией внешнего мира во внутреннее, которое ретроспективно оказывается обманчивой оболочкой, фикцией. Возьмем, например, «Тень над Иннсмутом», где в конечном счете выясняется, что главный герой сам является Глубоководным [1] — инопланетной амфибией. Я — это Оно, или, лучше сказать, я — это Они.
Хотя Лавкрафта часто и относят к
Соответственно, это не ужас, а очарование — хотя очарование, обычно смешанное с определенной тревогой, — является неотъемлемой частью лавкрафтовского изображения странного. К этому, однако, я бы добавил ещё вот что: очарование также является неотъемлемой частью всей концепции странного — странное не может только отталкивать, оно должно притягивать, привлекать наше внимание. Если бы в рассказе полностью отсутствовал элемент очарования и если бы рассказ был просто наполнен ужасом, он бы перестал являться по-настоящему странным. Очарование — это аффект, который равно испытывают и персонажи Лавкрафта, и его читатели. Страх же или ужас — испытываются по-разному. Герои Лавкрафта часто бывают напуганы, а вот его читатели — редко.
Очарование у Лавкрафта — это форма лакановского наслаждения (jouissance): наслаждения, которое влечет за собой неразрывную связь удовольствия и боли. Тексты Лавкрафта буквально «пенятся» таким наслаждением. «Вспенивающийся», «пенящийся» и «кишащий» — эти слова часто использует Лавкрафт, но они могут быть в равной степени применимы и к «obscene jelly» [2] наслаждения. Это не значит абсурдного заявления о том, что у Лавкрафта нет негативных аффектов — напротив, отвращение и мерзость почти не скрываются. Мы заявляем только то, что за этими аффектами не последнее слово. Чрезмерная озабоченность объектами, которые «официально» являются негативными или неприятными, всегда указывает на работу jouissance — на такой способ наслаждения, который ни в каком смысле не «искупает» негативности: он сублимирует её. Иными словами, он превращает обычный объект, вызывающий неудовольствие, в Вещь, одновременно ужасающую и привлекательную. Её, эту Вещь, нельзя больше либидинально и ограниченно классифицировать ни как положительную, ни как отрицательную. Вещь подавляет, ее невозможно сдерживать и в то же время — она завораживает.
Именно очарование, прежде всего, является двигателем эпизодов с гибелью и смертью в произведениях Лавкрафта. Очарование, влекущее персонажей к разрушению, распаду или вырождению, которое мы, читатели, всегда предвидим. Прочитав один или два рассказа Лавкрафта, читатель прекрасно понимает, чего ожидать от остальных. Трудно на самом деле поверить в настоящее читательское удивление даже при условии, что читатель впервые знакомиться с Лавкрафтом. Из этого следует, что саспенс — так же, как и ужас — не является определяющей чертой его творчества.
Это также означает, что творчество Лавкрафта не подходит под структуралистское определение фантастики, предложенное Цветаном Тодоровым. Согласно этому определению, фантастическое состоит из остановки, которая случается в районе разрыва между (не)обыкновенным (истории, которые в конечном итоге разрешаются естественным образом) и чудесным (истории, которые разрешаются сверхъестественным образом). Хотя рассказы Лавкрафта и включают в себя то, что он охарактеризовал в «Заметках о написании странной прозы» как «иллюзию какой-то неясной приостановки или несоблюдения раздражающих ограничений времени, пространства и законов природы, которые навсегда заключают нас в тюрьму, мешая нашему любопытству к бесконечным космическим пространствам вне радиуса привычного зрения и анализа», в них никогда не упоминается о причастности к происходящему сверхъестественных существ. Человеческие попытки превратить инопланетных существ в богов явно рассматриваются Лавкрафтом как тщетные действия по их антропоморфизации — да, возможно, благородные, но в конечном счете абсурдные. Это попытки придать значение и смысл «реальному внешнему» космоса, в котором человеческие проблемы, взгляды и концепции имеют лишь локальные отсылки.
В своей книге «Лавкрафт: исследование фантастического» Морис Леви включил Лавкрафта в «фантастическую традицию», в которую входят готические романы По, Готорна и Бирса. Но акцент Лавкрафта на материальности аномальных сущностей в его рассказах означает, что он на самом деле сильно отличается от готических романистов. То, что мы могли бы назвать обычным натурализмом — стандартный, эмпирический мир здравого смысла и евклидовой геометрии — к концу каждого его рассказа будет разорван на части, его заменит гипернатурализм — расширенное понимание содержания материального космоса.
Материализм Лавкрафта — одна из причин, по которой, как мне кажется, мы должны отличать его художественную литературу — и вообще «странное» — от фэнтези и фантастики (следует отметить, что сам Лавкрафт с удовольствием отождествляет странное и фантастическое в «Заметках о написании странной прозы»). Фантастика — довольно емкая категория, в которую можно включить многое из научной фантастики и хорроров. Не то чтобы это полностью не соответствовало творчеству Лавкрафта, однако это не показывает нам того, что является по-настоящему уникальным в его методе. Фэнтези, в свою очередь, обозначает более конкретный набор характеристик. Лорд Дансени, ранний вдохновитель Лавкрафта, и Толкин — образцовые писатели-фэнтези, и контраст с ними позволит нам понять, чем же они непохожи на «странное». Действие фэнтези происходит в мирах, которые полностью отличны от нашего — Пегана Дансени или Средиземье Толкина. Или, скорее, эти миры географически и по времени далеки от нашего (при том, что слишком многие из них оказываются крайне похожими онтологически и политически на наш). «Странное», напротив, примечательно тем, что открывает зазор между этим миром и другими.
Есть, конечно, рассказы и циклы — например, книги Льюиса о Нарнии, «Страна Оз» Баума, трилогия Дональдсона о Томасе Ковенанте, — в которых присутствует зазор между этим миром и другим, но в них нет проявленной энергии странного. Причина этому в том, что категории «мира сего» в таких книгах служат более или менее прологами или эпилогами стандартных фэнтезийных историй. Персонажи из этого мира уходят в другой мир, но этот другой мир не оказывает никакого влияния на этот, кроме того влияния, которое сквозит через вернувшихся сюда персонажей. У Лавкрафта есть взаимодействие, обмен, конфронтация и даже конфликт между мирами. Этим объясняется гигантское значение того, что действия многих рассказов Лавкрафта происходят в Новой Англии. Новая Англия Лавкрафта, как пишет Морис Леви, — это мир, «реальность которого — физическую, топографическую, историческую — следует выделить. Хорошо известно, что по-настоящему фантастическое существует только там, где невозможное может проникнуть сквозь время и пространство в объективное и привычное место». Таким образом, я предполагаю, что, отказавшись от стремления изобретать миры, как это сделал Дансени, Лавкрафт перестал быть писателем-фантастом и стал писателем странного.
Первой характеристикой странного, по крайней мере, в версии Лавкрафта, был бы, если использовать выражение Леви, вымысел, в которой не невозможное, а внешнее «может проникнуть сквозь время и пространство в объективное и привычное место». Миры могут быть совершенно чужими нашему, как с точки зрения местоположения, так и с точки зрения физических законов, но при этом они не будут являться странными. Именно вторжение в этот мир чего-то извне является признаком странного. Здесь мы можем увидеть, почему странное влечет за собой определенное отношение к реализму, о котором сам Лавкрафт нередко писал в пренебрежительном духе. Однако если бы он полностью отказался от реализма, он никогда бы не вышел из царства фантазий Дансени и Де ла Мара. Было бы правильнее сказать, что Лавкрафт сделал реализм содержанием и локализовал его. В письме 1927 года редактору «Weird Tales» он прямо заявляет:
Только человеческие сцены и персонажи должны обладать человеческими качествами. К ним нужно обращаться с беспощадным реализмом (а не с мелочным романтизмом), однако, когда мы пересекаем черту безграничного и ужасающего неизвестного — преследуемого тенями Внешнего — мы должны не забывать о необходимости оставить нашу человечность и приземленность на входе.
Рассказы Лавкрафта в своей выразительной силе зависят от различия между земным, эмпирическим и внешним. Это одна из причин, почему они так часто пишутся от первого лица: если внешнее постепенно вторгается к человеческому субъекту, можно чётко рассмотреть очертания его чуждости. И в то же время, если, напротив, пытаться запечатлеть «безграничное и ужасающее неизвестное» вообще без
Следовательно, предварительное определение странного могло бы быть основано на немного необычном и двусмысленном построении «из», которое Лавкрафт использует в названиях двух своих рассказов: «Цвет из иных миров» и «Тень из безвременья». На простейшем уровне «из», очевидно, означает «вне». И все же невозможно — особенно в случае «Тени из безвременья» — избежать второго смысла, намека на
Лавкрафт не может полагаться на уже существующие образы или знания, чтобы ощутить привкус потустороннего и призвать внешнее. Это в значительной степени зависит от производства нового. Как сказал Чайна Мьевиль в предисловии к «Хребтам безумия», «Лавкрафт находится вне всякой фольклорной традиции: это не модернизация знакомого всем вампира или оборотня (или Гаруды, или русалки, или любой другой традиционной пугалки). Пантеон и бестиарии Лавкрафта абсолютно уникальны». Однако есть еще одно важное измерение новизны произведений Лавкрафта, которое отрицается им самим. Как продолжает Мьевиль, «в повествовании Лавкрафта есть <…> парадокс. Хотя его изобретения чудовищного и его подход к фантастическому совершенно оригинальны, сам он делает вид, что это не так». Сталкиваясь со странными существами, персонажи Лавкрафта находят параллели в мифологии и своих знаниях, которые изобрел для них автор. Ретроспективная проекция Лавкрафтом нового мифа на далёкое прошлое породила то, что Джейсон Колавито называет «культом инопланетных богов». Лавкрафтовское «ретро-погребение» нового — это то, что помещает его странные истории «вне» времени — опять же, например, как в рассказе «Тень из безвременья», в котором главный герой Пизли сталкивается с текстами, написанными его когда-то собственной рукой среди древних архитектурных реликвий.
Чайна Мьевиль утверждает, что именно влияние Первой мировой войны породило новое у Лавкрафта: травматический разрыв с прошлым позволил появиться новому. Но, вероятно, не менее важно понимать работы Лавкрафта и как направленные на осмысление травмы в виде проблематизации разрывов в самой ткани опыта. Замечания, сделанные Фрейдом в работе «По ту сторону принципа удовольствия» («В результате некоторых психоаналитических открытий мы сегодня в состоянии приступить к обсуждению теоремы Канта о том, что время и пространство являются необходимыми формами мышления»), указывают на его уверенность в действиях бессознательного за пределами того, что Кант называл «трансцендентальными» структурами времени, пространства и причинности, которые управляют перцептивно-сознательной системой. Одним из способов понять функции бессознательного и его разрыв с господствующими моделями времени, пространства и причинности было изучение психической жизни тех, кто страдает от разных травм. Поэтому о травме можно думать как о своего рода трансцендентальном шоке. И эта фраза снова возвращает нас к размышлениям по поводу творчества Лавкрафта. Внешнее не есть «эмпирически» внешнее. Оно трансцендентально внешнее — речь идет не просто о
Важно не слишком торопиться отдавать Лавкрафта понятию непредставимого. Лавкрафта слишком часто ловят на слове, когда он называет своих существ «неназываемыми» или «неописуемыми». Как указывает Чайна Мьевиль, чаще всего Лавкрафт, прежде чем называть существо «неописуемым», сперва говорит о нём с очень точными, почти техническими подробностями. И в этой последовательности, кстати, есть и третий момент. После заявления о неописуемости и самого описания следует незримое. При всей своей детализации, а может быть, именно
До сих пор мои размышления о Лавкрафте концентрировались на происходящем внутри самих его рассказов. Но одно из ключевых впечатлений от той странности, которую Лавкрафт нам предлагает, можно поймать только между его текстами. Систематизация текстов Лавкрафта в «мифы» могла быть работой его последователя Августа Дерлета, ведь взаимосвязь историй и то, как они создают непротиворечивую реальность, имеет решающее значение для понимания уникальности Лавкрафта. Может показаться, что способ, которым он добивается такой согласованности, не сильно отличается от способа того же Толкина. Но, опять же, решающее значение имеет отношение к этому миру. Помещая свои рассказы в Новую Англию, а не в
Вставка в рассказы симулированной наукообразности и научных суждений вместе с настоящими историческими фактами порождает онтологические аномалии, похожие на те, которые созданы в «постмодернистских» художественных произведениях Роб-Грийе, Пинчона и Борхеса. Обращаясь с реально существующими явлениями так, как если бы они имели тот же онтологический статус, что и его собственные выдумки, Лавкрафт дереализует фактическое и реализует вымышленное. Грэм Харман с нетерпением ждет того дня, когда Лавкрафт сместит Гельдерлина с его высокого трона объекта литературных исследований философов. Вероятно, мы можем спрогнозировать время, когда бульварный модернист Лавкрафт вытеснит постмодерниста Борхеса с его амплуа выдающегося исследователя онтологических головоломок. Лавкрафт воплощает в жизнь то, что Борхес лишь «выдумывает». Никто никогда не поверит, что версия Дон Кихота Пьера Менара существует вне истории Борхеса. В то же время многие читатели Лавкрафта связались с Британской библиотекой, прося копию Некрономикона, книги древних знаний, которая часто упоминается в рассказах Лавкрафта. Он создает «эффект реальности», показывая нам только крошечные фрагменты Некрономикона. Именно фрагментарность ссылок на жуткий текст вызывает у читателей веру в его реальность. Представьте, если бы Лавкрафт действительно написал полный текст «Некрономикона». Книга бы оказалась гораздо менее реальной, чем в том случае, когда мы видим только цитаты из неё. Лавкрафт, скорее всего, понимал силу цитирования и то, насколько текст приближается к действительности, если его только частично цитируют.
Одним из следствий таких онтологических смещений является то, что Лавкрафт перестает иметь высшую власть над своими собственными текстами. Если текстам хватает определенной автономии от автора, то роль Лавкрафта как их мнимого создателя становится второстепенной. Вместо этого он становится изобретателем существ, персонажей и формул. Важна последовательность его художественной системы — это последовательность, которая предполагает коллективное участие и читателей, и других авторов. Как хорошо известно, не только Дерлет, но и Кларк Эштон Смит, Роберт Ховард, Брайан Ламли, Рэмси Кэмпбелл и многие другие написали свои рассказы о мифах Ктулху. Сплетая историии воедино, Лавкрафт теряет контроль над своими произведениями в пользу формирующейся системы, имеющей собственные правила, которые открыты читателям в той же мере, что и самому автору.
Примечания:
1. Глубоководные — вымышленная раса разумных амфибий в мире Лавкрафта.
2. Подробнее об «obscene jelly» в контексте неприятного см.: https://cinea.be/an-eerily-vulnerable-thing-miranda-july-and-the-failure-of-profundity/. По сути, obscene jelly можно определить как отвратительную массу какой-то вкусной еды — это что-то, что очень вкусно, но на вид — просто отвратительно. Или — наоборот.
