Мне так много надо сказать вам своим искусством
В начале декабря в Новосибирске прошла серия лекций известного художника-концептуалиста Юрия Альберта. Это стало возможно благодаря усилиям Гëте-института и Не[о]академии в лице Константина Скотникова и Филиппа Крикунова, за что им огромное спасибо. Не[о]академия — это новый образовательный проект, который заявлен как «[не]первая школа современного искусства», и лекции Альберта должны стать лишь первым шагом в ее деятельности. Хочется надеяться, что всë получится, и мы действительно сможем наблюдать появление в Новосибирске первой полноценной образовательной программы в сфере современного искусства. Сейчас же мне хочется поделиться с читателями некоторыми размышлениями, на которые меня натолкнул рассказ Юрия Альберта о своем творческом пути.

Розалинд Краусс в своей статье «Левитт и прогресс» описывает серийные произведения Сола Левитта как невротический ритуал, как неуклонное следование некой навязчивой иррациональной идее, иллюстрируя этот тезис цитированием эпизода с обсасыванием камней из «Моллоя» Сэмуэля Беккета: герой занят изобретением такого механизма распределения камней по карманам пальто, чтобы быть уверенным, что каждый раз, когда он сует очередной камень в рот, он будет сосать не тот же камень, что сосал недавно. Бессмысленное и безумное в своем упорстве выстраивание бесконечных цепочек означающих, а также изобретение всё новых и новых механизмов для порождения этих цепочек, призваны скрыть некое травматическое событие, утрату, после которой мир превратился в «мир, лишенный центра, в мир подмен и перестановок, которые нигде не освящены откровениями трансцендентального субъекта*».
Примечательно, что Юрий Альберт примерно так описывает художественную среду, с отрицания которой начинается концептуализм в Советском Союзе: это «высокодуховная и квазирелигиозная» катакомбная церковь, которую составляли «серьезные и сильно пьющие люди». Они восприняли и переработали опыт западного модернизма и создавали абстрактную иконопись, как, например, Михаил Шварцман, или символические полотна «духовного прозрения», как Дмитрий Плавинский. Московский концептуализм в том числе возникает как отрицание такого искусства как некой духовной и возвышенной альтернативы, которая должна была, с одной стороны, дать художнику фантазм иного мира взамен современного ему советского, а с другой стороны, воплотить доставшиеся художникам по наследству предписания по поводу высокой миссии искусства и его глубокого духовного содержания. Но было более невозможно, по словам Юрия Альберта, «всë время ходить в небо, пить и молиться». И концептуализм выстраивает себя вокруг принципиально пустого центра. Точно так же, как в работе Ильи Кабакова «Ответы экспериментальной группы» тексты-ответы выстраиваются вокруг некоего отсутствующего вопроса, который остается неназванным и который невозможно вывести из ответов респондентов.

Многие работы Альберта свидетельствует о травме, о несоответствии стандарту или о невозможности заниматься искусством. Так в проекте 1990 года «Мама, смотри — художник!» в этюдниках, выставленных в экспозиции, горит огонь, так что каждый, кто решит нарисовать что-либо, рискует сжечь себе руки. Он также делает несколько работ, связанных со слепотой, невозможностью видеть (организует экскурсии для публики с завязанными глазами, рисует свой автопортрет вслепую, делает работы, написанные шрифтом Брайля). В его работах постоянно намеренно и ненамеренно воспроизводится неудача, все его попытки неумолимо ведут к своему краху, но в то же время именно эта неудача парадоксальным образом делает его произведения произведениями искусства. «Ни на что другое, кроме как быть произведениями искусства, они не годятся», — говорит он сам. Он делает в Перми указатель, который показывает расстояние до крупнейших музеев современного искусства, и после переезда музея, указатель тоже переносят, так что теперь он показывает неверные расстояния. Он пишет автопортрет, но такой, чтобы невозможно было узнать, кто на нëм изображен. Он организует экскурсию в Третьяковской галерее для людей с завязанными глазами, но еë разрешают провести лишь тогда, когда у музея выходной и посетителей нет. На его выставку, где были выставлены работы, написанные шрифтом Брайля, в первый раз не пригласили слепых, и зрячим друзьям Альберта пришлось изображать перед камерой, что они слепые и пытаются пальцами прочесть «картины». Когда он приходит в Третьяковку и создает произведение «Мой рост» (то есть измеряет свой рост отметиной на косяке в галерее), а затем дарит его музею, то сделать документацию ему разрешают, но само произведение тут же уничтожает уборщица.
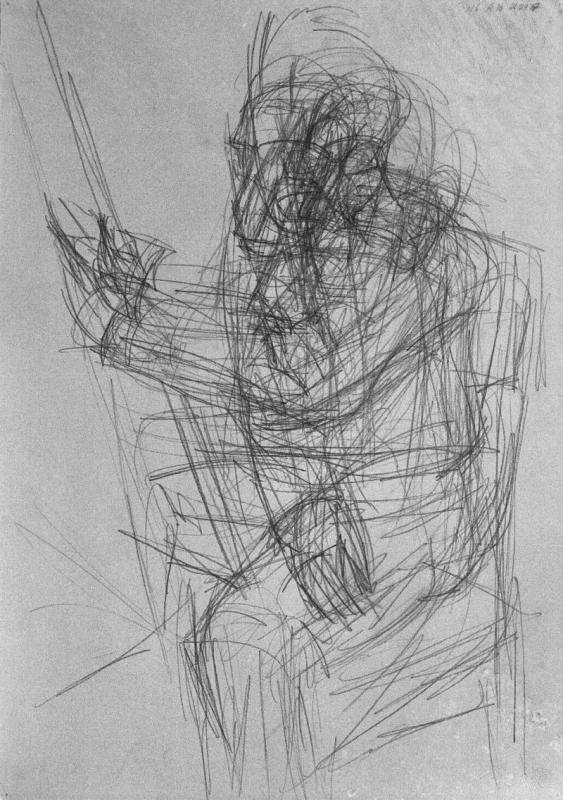
Альберт в своей лекции прямо проговаривает, что за его работами подспудно разыгрывается некий травматический сценарий: «несоответствие детской мечты и того, чем я занимаюсь», быть современным художником — «греховное занятие», «искупление своей гордыни» и т. д. На первый взгляд кажется, что всë дело в том, что есть определëнное давление представлений об искусстве (представлений публики, общества, истории искусства), которое накладывается на невозможность современного художника соответствовать им: обсасывать камни нужно строго по очереди. И именно отсюда возникает тема буквалистского обыгрывания этих «штампов» об искусстве, вроде высиживания духа из яйца арт-группой «Гнездо». У Альберта есть более жëсткая работа, построенная на игре с распространëнным определением искусства как эмансипации человека: надпись «Kunst macht frei», выполненная точно так же, с таким же написанием и изгибом, как надпись «Arbeit macht frei» над воротами Освенцима. Комментируя эту работу, Альберт говорит, что искусство вовсе не освобождает нас, как представляют себе наивные молодые художники, а скорее помещает в концлагерь «странных жëстких правил», и «если вы их не соблюдаете, то искусством это не станет».
Ещë одна работа Юрия Альберта из серии «Искусство для глухонемых» (1988) «записывает» на языке жестов знаменитую фразу Витгенштейна: «О чём невозможно говорить, о том следует молчать». Славой Жижек в своем «Возвышенном объекте идеологии**» удивляется жëсткому и излишнему запрету, который сформулирован в этой фразе: если о

В этом заключается грех современного искусства. Одним из способов действия в такой ситуации может стать «искупление греха» трудом: так Альберт переписывает вручную все рецензии, написанные на его работы, переписывает от руки письма Ван Гога, Рубенса и других художников, перерисовывает карикатуры на художников и т. д. Вторым способом будет бесконечное перебирание вариантов «нет, это не то» — сам процесс и будет тем самым «да, это то», бесконечная вереница неудач, которая и есть путь художника. Это прекрасно иллюстрирует Такеши Китано в «Ахиллесе и черепахе». Возвышенная иллюзия настоящего Искусства с большой буквы, которому никто из нас не имеет возможности соответствовать, тащит художника через безумие и самоуничтожение. Демократизация искусства означает не то, что искусство стало доступно каждому, а то, что его властный голос обращен теперь к каждому, но лишь тот становится художником, кто готов подчиниться его требованию, потерпеть неудачу и понести за это наказание.

Концептуалисты, конечно, старались никогда не подходить к пределу так близко, что это становилось опасным (как делали уже позже, к примеру, Бренер и Кулик). Будучи советским и затем пост-советским гражданином во всем своем бессилии и двоемыслии, художник-концептуалист был расщеплëнным субъектом, в говорении которого всегда сохранялось несовпадение того, что говорится, и результатов говорения. «Колобковость» — ускользание посредством использования обнуляющего самого себя кода — было обоюдным: художники ускользали от Долга Искусства, а Искусство — от разоблачения. Если мы посмотрим на поздние работы Юрия Альберта, мы увидим, что это ускользание постепенно приводит художника либо к перебрасыванию мяча на половину поля зрителя («Неужели вы думаете, что искусство это то, на что вы сейчас смотрите?», Московкий выбор, 2009), либо к так называемым административным проектам (например, «Одна минута», 2010, когда Лувр открывался в течение недели на одну минуту раньше). Административные проекты (и институциональная критика в том числе) заключается во внедрении в сложные бюрократические процедуры и властные отношения, опутывающие художественные институции; они становятся возможны, когда современные художники заслуживают определенный статус и получают к ним доступ. Можно сказать, что колобок, ушедший и от бабушки, и от дедушки, пришел к тому, что, в конце концов, определение искусства дают либо зрители, либо социальные структуры и лица, наделенные властью. Художник может предлагать им себя, и то, что его допустили в художественный мир, и будет являться его финальным успехом, к которому он пришел этим окольным путем самоотрицания.
Эта смена тона от «виновного» художника, который не может соответствовать великим образцам, к более расслабленному и игровому тону «безответственного» художника была хорошо слышна в третий день лекций Юрия Альберта, когда он начал рассказывать про свои проекты с конца 2000-х. Участие в
Но почему художник должен скрывать свое искусство, а зрителю должно быть запрещено ставить эту ситуацию под сомнение? Почему зашла речь о доверии? Понятно, что если всë, что кружится на орбите искусства — это фикция, которая призвана замаскировать пустоту в центре, то зритель должен верить в то, что художник его не обманывает. И при этом не требовать никаких доказательств, потому что когда он увидит нарисованного на пенисе зайца и убедится, что кроме этого больше ничего нет, весь спектакль будет испорчен. Другими словами, чтобы играть, нужно вступить в игру и играть по еë правилам; если вы нарушите правила, игра окажется невозможной.

Ответить на вопрос, чем же предположительно владеет художник, можно с несколько иной точки. Юрий Альберт открыто проговаривает это в ответе на реплику художника Костантина Ерëменко, в которой тот замечает, что тоже знал одного мужика, который говорил, что у него на члене было написано «Хамло». На это Альберт отвечает: «Да, но он же не сделал карьеру художника». Успешный современный художник владеет властью. Да, теперь он уже не задаëт вопросы, а даëт какие-то ответы (по сути любые): «Искусство — это молоко цивилизации», «Каждому своë искусство» и т.д, а также продолжает делать бесконечные отсылки к произведениям других известных художников (так работает механизм легитимации: сразу становится ясно, что заявленное нечто принадлежит именно к департаменту искусства). Художник может даже немного приоткрывать доступ к своему «телу»: показывать, как он танцует на своем вернисаже или как он бьется пузом о пузо финансового директора ГЦСИ. Художник знает, как сделать искусство, знает как некие умозрительные модели, так и практическую сторону: как достать денег на проект, как найти того, кому можно заказать сложную техническую или монотонную ремесленническую работу, где это выставить, как договориться с административным ресурсом о тех или иных правилах. Он может прямо эксплуатировать свою власть над зрителями: взвешивать их (арт-группа «Эдельвейс», Prunus), помещать им в обувь скульптуры (Юрий Альберт, «Хождение по выставке (Камень в ботинке)», 2001-2007), заставлять кланяться и целовать турникет, чтобы попасть на выставку (арт-группа «Купидон», выставка «Станционный смотритель», 2015), сталкивать их с некими абсурдными ситуациями и наблюдать за ними со стороны. И зритель должен довериться тому, кто пытается организовать для него праздник, чтобы праздник случился.
___________________________________
* Розалинд Краусс, Левитт и прогресс. // Подлинность авангарда и другие постмодернистские мифы. Худ.журнал, М.:2003. С. 258
** Славой Жижек, Возвышенный объект идеологии. Худ.журнал, М.:1999. С. 80
