Членораздельное и голографичное
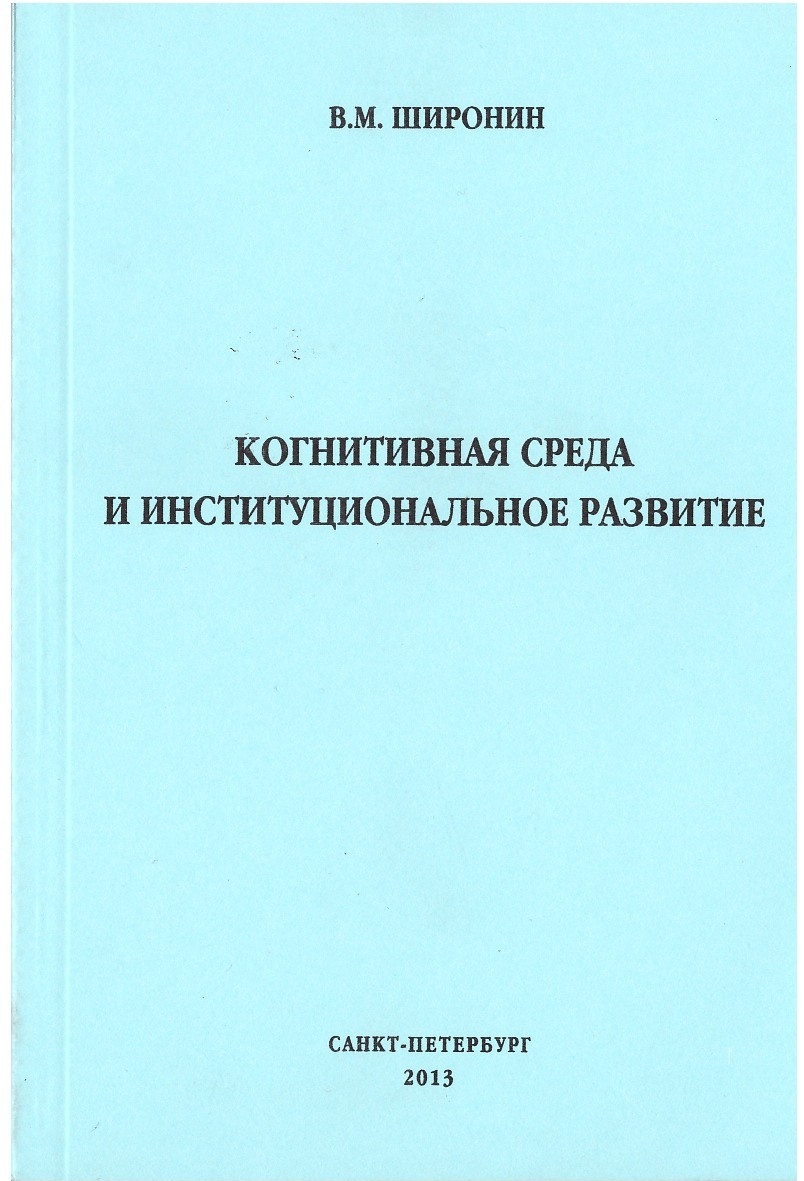
Когнитивный анализ в обществоведении
Когнитивная наука — это «название поля академических исследований, ставшего популярным с конца 1950-х годов. Предметом этих исследований является то, каким образом люди приобретают, представляют и передают знание» [Dawson 1998, p. 4]. Исходно она имела задачей создание искусственных вычислительных систем, получивших впоследствии название компьютеров. При этом источником идей, кроме математики, стало знание о человеческом мозге. Отсюда — не только «компьтероцентричность» когнитивной науки, но и ее «мозгоцентричность». До сегодняшнего дня когнитивная наука гораздо ближе к тем областям знания, которые ориентированы на изучение процессов познания отдельного человека (как психология или нейробиология), чем на обществоведение.
Когнитивный анализ в обществоведении, т.е. когнитивная социология сложилась отдельно от этого. Это все еще сравнительно молодая, «малонаселенная» и не слишком известная область исследований. Само такое словосочетание появилось впервые в 1974 году как название книги Аарона Сикуреля [Cicourel 1974], обратившего внимание на то, что понимание результатов социологического исследования невозможно на основе только полученных в результате текстов (скажем, записей интервью), а требует учета социального контекста. На сегодня классической работой, «камертоном» в области когнитивной социологии считается статья Пола ДиМаджио [DiMaggio 1997], призывающая использовать в социологии культуры результаты когнитивной психологии. В качестве актуальных тем исследований автор говорит о проблемах идентичности, коллективной памяти, социальных классификаций, а также об изучении логик действия. Этот последний сюжет, который он оценивает как «исключительно привлекательный», прямо перекликается с дальнейшим содержанием нашей статьи; он состоит в анализе «взаимозависимого множества представлений и ограничений, которые влияют на поведение в данной области». Обсуждение актуальных тем продолжается (например, на сайте Карен Серуло [Cerulo]). Это направление исследований пересекается с новым институционализмом, начало которому положила работа [Meyer and Rowan 1977] и другие работы ДиМаджио [DiMaggio and Powell 1983, 1991] .
Другое направление, хотя обычно и не обозначаемое ярлыком «когнитивной социологии», но которое, тем не менее, вполне может быть туда отнесено — это так называемый когнитивно-институциональный синтез Дугласа Норта. В своей Нобелевской речи в 1993 году [North 1993] он призвал построить аналитическую теорию, которая должна опираться на понимание того, как происходит познание. Основой должно стать понимание ментальных моделей, существующих в сознании членов того или иного общества, учитывая при этом, что «трансформация этих систем в социальные и экономические структуры осуществляется посредством институтов, будь то формальные правила или неформальные нормы поведения». В этом ключе была написана книга [Норт 2010].
Книгу [Широнин 2013] можно рассматривать как еще один вариант когнитивной социологии, реализующий программу Норта, но в своей конкретике имеющий с упомянутыми работами не так много общего. В настоящей статье мы попробуем прояснить логику построенных в этой книге моделей и расширить область их приложения.
Исходная постановка вопросов
Начиная с середины 1980-х годов в СССР и затем в России сложилось сообщество — преимущественно экономистов, — чьи профессиональные интересы были направлены в первую очередь на институциональные реформы. Несмотря на то, что родилось оно в научной среде, его дальнейшая деятельность носила по большей части практический характер. При этом его членов объединяло не только единство цели, но и, в определенном смысле, методологический подход, это было также научное направление, хотя далеко не все, кто его создавал, выражали свои взгляды в академическом формате.
Исходная реформаторская установка предполагала решение трех задач: диагностики существовавшей социально-экономической системы, выбора направления реформ и поиска тех инструментов, которые позволят их осуществить. В дальнейшем эти сюжеты формировали самую общую рамку анализа. Как ни очевидно они выглядят сейчас, на тот момент это было не так: в традициях советского обществоведения такие вопросы никогда не ставились, поскольку само их обсуждение выглядело бы как крамольная попытка усомниться во всеведении власти и в ее безусловной способности вести общество в нужном направлении.
В 1980-е годы такого рода анализ мог иметь только сугубо теоретический характер. В большой степени он мог опираться на работы восточноевропейских экономистов, прежде всего Яноша Корнаи [Kornai 1980; Корнаи 1990], но также и на экономическую классику. Однако для этого потребовалась очень существенная ревизия многих базовых допущений экономической науки. Те предположения о поведении людей и фирм (скажем, стремление к прибыли), которые в экономическом мейнстриме принимались за данность , в наших условиях могли возникнуть не как предпосылки, а только как результаты будущих реформ.
Основные научные результаты, полученные в 1980-е годы, состояли в следующем [Широнин 1984; Найшуль 1985; Авен, Широнин 1987]. Во-первых, существовавшая в то время в нашей стране социально-экономическая система не имела «командного» характера, т.е. не была управляемой сверху, а представляла собой «экономику согласований» или «административный рынок». Во-вторых, именно в силу отсутствия у общественной системы свойства «командности», внедрение нужных преобразований также не могло быть осуществлено путем указаний сверху, а представляло собой отдельную большую задачу. Поэтому вопрос о способах реализации предполагаемых изменений, об инструментах политики становился очень важным как практически, так и в теории.
Из вопроса о командности системы (страны в целом, организации и т.д.) или об отсутствии таковой вытекал целый круг интереснейших тем. Рассматривая в самом общем виде понятие плана как целенаправленной деятельности, обеспечивающей осуществление (реализацию) задуманного, желательного состояния вещей, принято обычно противопоставлять ему понятие рынка, понимаемого как хаотичное взаимодействие независимых друг от друга индивидов или частных предприятий. Если мы анализируем некоторую данную социально-экономическую систему с этой точки зрения, то первым вопросом будет — возможно ли составление осмысленного плана? Позволяет ли эта система генерировать хорошие — или хотя бы непротиворечивые проекты?
Легко видеть, что процесс составления плана представляет собой процедуру согласований. Тем самым мы должны задать следующие вопросы:
• Какова архитектура механизма согласований плановых и иных решений?
• В каких терминах происходят согласования?
• Каковы мотивы участников?
• Что является результатом согласований — некоторый общий план или же согласования направлены на уточнение и «притирку» множества частных планов? — и т.п.
Таким образом, предметом исследования в большой степени становится информационный механизм. Это относится и к следующему вопросу — предоставляет ли система вообще возможность для реализации наперед задуманных проектов, обладает ли она нужными для этого инструментами? Такое свойство социально-экономических систем, которое можно назвать их программируемостью [Широнин 2010, с. 53], отнюдь не всегда присутствует. Поэтому необходимо понимать:
• Выдерживаются ли, не изменяются ли планы в процессе их реализации?
• Каков механизм реализации планов и различных проектов (что представляет собой архитектура этого механизма, какова его концептуальная база, мотивация участников и т.д.)?
• Какова институциональная среда, обеспечивающая реализацию планов?
• Какие инструменты политики работоспособны, а какие нет?
Начиная с 1990-х годов и по мере преобразований, этот набор вопросов развивался, и возникали новые: каковы закономерности поведения новых социально-экономических игроков, какого рода «невидимая рука» и в каком направлении их ведет:
• В частности, почему новые «рыночные» институты не всегда эффективны?
• Можно ли считать эти институты рыночными? Каковы существенные черты «подлинно рыночных» институтов?
• Имеет ли смысл применять понятие «рыночный» к российским реалиям? В чем причина систематических неудач при внедрении заимствуемых институтов?
• Каково реальное поведение наших институтов?
Чем дальше, тем становилось яснее, что предмет анализа нельзя ограничивать только рынком, т.е. экономическими отношениями, поскольку они связаны с общим социально-политическим устройством. В частности, из экономического анализа не было понятно, почему никак не решаются проблемы именно в профессиональных областях, связанных со знанием — науке, образовании, медицине, почему постоянно воспроизводятся одни и те же проблемы в правовой области. Наконец, возникали и общие вопросы — в чем заключаются коренные черты нашей системы поведения и традиционной общественной системы, которая в своих коренных чертах постоянно возрождается? В чем ее сильные и слабые стороны? В чем причина стабильности этой системы и постоянного воспроизведения старых институциональных особенностей и моделей поведения?
Обсуждение такого рода вопросов привело во второй половине 1990-х годов к мысли, что для успеха институциональной (и даже экономической) модернизации в нашей стране необходимо изучение и принципиальное развитие русского общественно-политического языка, а также поиск в русской культуре тех архетипов, которые могли бы стать «элементной базой» для нового институционального строительства [Найшуль 2006]. С другой стороны, становилось все яснее, что стабильность общественной системы определялась тем способом, которым она работала с информацией и знанием, отторгая все те нововведения, которые этому способу противоречили. Таким образом оказывалось, что наиболее удобный концептуальный инструментарий для обсуждения всех этих вопросов можно найти именно в области лингвистического и когнитивного анализа.
Базовые модели
Последуем практике тех наук, где принято сначала анализировать свойства моделей (идеальных типов), не задаваясь вопросом об их соответствии какой-либо эмпирической реальности. Затем — отдельно от этого — мы попробуем использовать наши модели уже как инструменты для анализа некоторых интересующих нас проблем.
Когнитивная наука обнаружила, что существуют два способа обращения с информацией (ее создания, хранения и передачи), которые можно увидеть везде, и в природе и в жизни людей. Их можно условно назвать «членораздельным» и «голографическим». Прототипом первого из них является человеческий язык, прототипом другого — сеть нейронов мозга. Как правило, эти два способа так или иначе сочетаются и взаимодействуют, однако их можно разделить на абстрактном уровне и анализировать как отдельные модели. Соответственно, в когнитивной науке выделяют два направления, одно из которых принято называть «классическим», другое — коннекционистским (connectionist — от слова connection, соединение). Классическое направление имеет дело с переработкой информации в символической — «членораздельной» — форме. Коннекционистское направление занимается изучением систем, в которых поток информации невозможно представить в виде последовательности символов — «слово за слово», — а имеет место параллельная переработка информации .
Поясним сказанное. Самым важным примером символической системы является человеческий язык. Хотя любой естественный язык — это бесконечно сложное явление, его первое внешнее устройство можно описать достаточно просто, и этого будет достаточно для наших целей. А именно, язык — это конструктор. Имеется в виду — «детский конструктор», лего, по-английски — construction set. Он представляет собой набор деталей, из которых можно собирать различные комбинации: из звуков (букв) собираются слова, из слов — предложения, далее — тексты и т.д. Иначе говоря, язык представляет собой иерархическую систему, в которой единицы более высокого уровня собраны из единиц более низкого уровня в соответствии с правилами грамматики. При этом все единицы языка (кроме единиц самого низшего уровня — звуков) имеют некоторое значение, т.е. отсылают нас к некоторой «реальности» .
Обобщением понятия языка является символическая (или знаковая) система. Это а) иерархический набор элементов (символов, знаков), б) грамматические правила их сочетания, и в) связь этих элементов с «реальностью». В отличие от языка, последний пункт триады — связь с «реальностью» — в данном случае может проявляться не только как значение элементов, но также как их назначение, предназначение, функция. Примером здесь может служить система машиностроения, включающая набор стандартизованных деталей машин, правила их соединения и «тексты» в виде работоспособных механизмов, выполняющих те или иные функции.
«Голографические» — системы с параллельной переработкой информации — устроены не как наклеивание ярлыков-символов на «куски реальности», а основаны на умении элементов системы реагировать друг на друга. Знанием же о «реальности» в этом случае обладает вся такая система в целом (отсюда и выбор слова «голографическая»). Такую модель в первом приближении можно себе представить в виде информационной сети. На рисунке она выглядит как сетка, в узлах которой расположены некоторые элементы (обычно называемые нейронами), способные посылать друг другу сигналы (скажем 0 или 1). Каждый нейрон с номером i суммирует все приходящие к нему сигналы от нейронов с номерами j, умножая их на коэффициенты (веса) wji. Если величина этой взвешенной суммы не превышает некоторого порога (скажем, ½), то нейрон посылает свой сигнал 0, если превышает, то сигнал 1. (Таким образом, единственный способ изменения функционирования сети — путем изменения коэффициентов wji).
Интересно выяснить основные свойства этих двух моделей — «членораздельной» и «голографической».
Эти два типа информационных систем накапливают знание по-разному. Что касается «членораздельных» систем, то механизм достаточно прост — как и язык, они накапливают информацию путем обогащения понятийного, словарного запаса и запаса текстов (т.е. набора элементов с их значениями или функциями), а также путем развития грамматики. Например, живя в условиях почти постоянной зимы, народы севера имеют десятки слов для обозначения различных видов снега; врачебный язык имеет термины для симптомов болезней и т.д. Другого рода примером может служить система машиностроения, включающая постоянно обогащаемый набор стандартизованных деталей машин, правила их соединения и «тексты» в виде работоспособных механизмов, выполняющих те или иные функции. Точно так же постоянно обогащается набор стандартизованных деталей в системе машиностроения.
Знание в системах с параллельной переработкой информации накапливается совершенно иначе. Взаимодействуя с «реальностью», такие системы обучаются, и это выражается в том, что все части системы претерпевают некоторые изменения, причем никакое изменение нельзя однозначно связать с
Замечательной иллюстрацией служит здесь известный эксперимент с сетью из 309 искусственных нейронов, которую обучали читать вслух английские слова [Sejnowski, Rosenberg 1987]. Для этого была сделана магнитофонная запись речи ребенка, которую перевели в знаки звуковой транскрипции. Затем над сетью была многократно повторена следующая операция:
• слова в письменной форме подавались на входные нейроны сети,
• в результате генерировались сигналы внутри сети и на выходе,
• сигналы на выходе сравнивались с записью речи и (по очень простой единой формуле) пересчитывались все взвешивающие коэффициенты wji.
После примерно 50 «прогонов» сеть обучалась читать вслух, в том числе те слова, которых не было в первоначальном тренировочном наборе. Таким образом, система, состоящая из очень простых элементов, демонстрировала способность выполнять очень сложную операцию.
Знание накапливалось сетью именно в виде коэффициентов wji, при этом, как оказалось, информация распределялась по всей сети. Сеть сохраняла полученный «навык» даже после удаления (но только случайным образом) 90% нейронов. Газета Нью-Йорк Таймс так писала после интервью с Теренсом Сейновски :
Он обнаружил, что выбранные наугад 10 нейронов могут быть использованы как «зерно», чтобы воспроизвести всю систему кодирования. В этом смысле сеть похожа на голограмму. Если одно из таких созданных лазером изображений разрезать на две, четыре, восемь или шестнадцать частей, то каждый кусок содержит всё изображение, хотя его резкость будет последовательно ухудшаться.
«Членораздельные» и «голографические» системы основаны на совершенно разных механизмах поддержания их устойчивости. Ясно, что возможность пользоваться языком связана со стабильностью значений слов и грамматики. Представим, что было бы, если бы все начали приписывать одним и тем же словам различные значения. Точно так же социальные системы, основанные на принципе «членораздельности», становятся неэффективными в результате того, что принято называть коррупцией — т.е. «порчи» стандартных моделей поведения в угоду отдельным участникам системы. В противоположность этому, «голографические» системы, основанные на полноте знания всех участников — прежде всего «смежников» — друг о друге, их «притертости» и «сыгранности», страдают как от стандартизации и «прозрачности», так и от всякого рода дробления системы на куски.
Важнейшее свойство «членораздельных» систем — это их способность легко отчуждать знание и превращать его в вещь. Записывая, мы создаем «внешнюю память», обеспечиваем возможность сохранения знания и расширяем круг людей, которым оно станет доступно. Нужно заметить, что превращение знания в вещь может происходить не только в прямом «физическом» смысле (как при письме). Например, подписывая договор, мы рассчитываем, что он сохранится не только как лист бумаги с напечатанными на нем буквами, но неизменным останется и его смысл, т.е. что договор обеспечит определенные действия. Для этого (см. ниже) необходимая соответствующая институциональная инфраструктура.
Можно сказать, что отчуждение знания в «членораздельных» системах — это разновидность перекодировки. Так, мысль, сначала выраженная в виде последовательности звуков устной речи, превращается в знаки чернил на бумаге, затем в движение руки на клавиатуре компьютера, в последовательность символов, физическое состояние компьютерного «железа» и т.д. Дальше — если речь идет о юридическом договоре — может вступить в действие сложная социальная система судебной трактовки этого текста, призванная установить и сохранить его истинное содержание (в том числе его соответствие той мысли, которую первоначально хотел выразить человек, стоявший в начале этой цепочки перекодировок).
Важно обратить внимание на следующее. С одной стороны, передача смысла (в данном случае, договора) всегда требует какого-то физического (или даже социального) носителя, которым может быть звук, бумага, компьютер и т.д. Иначе говоря, значение неотделимо от некоторого знака. С другой стороны, мы можем считать, что за всеми этими перекодировками стоит один и тот же смысл или идея, идеальный (платоновский) объект. О соотношении и противопоставлении идеи (идеального объекта) и реальности существует огромная и очень интересная литература [Поппер 1983; Кун 2009] . Среди прочего еще раз выделим то, что можно назвать программируемостью системы — наличие в данной системе инструментов для перекодировки идеального объекта с одного «носителя» в другой. Кроме всем понятного различия между письменными и бесписьменными культурами, здесь интересно проследить наличие возможности фиксации и отчуждения таких более сложных идеальных объектов, как факт, договор, научная теория или закон.
Наконец, важно подчеркнуть: концепции и понятия, которые мы привыкли считать естественными и как бы объективно существующими в человеческом сознании, на самом деле применимы только в рамках определенной когнитивной — а именно символической, «членораздельной» — системы. Обсуждение этого сюжета далеко выходит за рамки нашей статьи, поэтому отметим здесь лишь понятие факта: вопрос о содержании этого понятия вне «членораздельных» систем совершенно неясен. Более того, наша повседневная жизнь каждый день дает примеры того, как люди искренне не видят разницы между тем, что было, что могло или должно было бы быть.
«Членораздельное» и «голографическое» в социальных отношениях
Посмотрим на общество с позиций когнитивной науки, т.е. как на информационный процессор. Это позволит перенести все накопленное знание о мозге, мышлении и искусственных информационных системах на системы социальные. В том числе мы можем тогда в социальных отношениях видеть черты «членораздельной» и «голографической» модели. При этом необходимо сразу предупредить, что ни одна из этих моделей на самом деле не встречается в чистом виде, а речь всегда идет об их сосуществовании и симбиозе, возможно, с преобладанием одной или другой. Модели — это абстракции, и «понимать модель буквально значит не принимать ее всерьез. Стоит помнить, что все модели неполны — что, собственно, и означает быть моделью» [Diamond 2010, p. 313].
Итак, в виде символической системы могут быть организованы не только речь и общение, но и многое другое в поведении человека. Предположим, что вы едете на автомобиле. Вы поворачиваете руль направо или налево, нажимаете на тормоз или газ, читаете знаки дорожного движения. Все эти действия можно рассматривать как высказывания в некотором обобщенном языке, как своего рода «текст». Сопоставим ваши действия с данным выше определением. Вы нажимаете на педаль — это знак (единица действия), который имеет значение (назначение) притормозить движение. Вы вписываетесь в поворот и совершаете необходимые для этого действия — эти действия согласованы между собой по правилам некоторой «грамматики», которую вы освоили на уроках вождения.
Возможно бесконечное число примеров человеческого поведения, организованного по «членораздельному» принципу, т.е. путем создания «конструктора» из известных всем, стандартизованных «кусочков»: кассир в большом магазине не только приходит на работу и уходит во-время, знает свое рабочее место, умеет пользоваться кассовым аппаратом, но и знает, что каждому покупателю следует сказать «доброе утро!», при этом не вступая в длинные разговоры. В отличие от этого, роль продавца на небольшом рынке в деревне предполагает личные отношения и неторопливую беседу с каждым. По символическому, «членораздельному» принципу организованы такие разные вещи, как юридическая система и мода, армия и наука. Вообще, создание знака — как и создание инструмента — это базовое свойство человека, отличающее его от животного. Поэтому гораздо более интересно обратное утверждение: далеко не все формы человеческого поведения и социальной организации имеют символический, «членораздельный» характер.
Соответствующие примеры встречаются так же часто, как и примеры поведенческих «языков». Прежде всего, сюда относится все ситуации, где участвует тело человека. Хорошей иллюстрацией здесь будут спортивные игры. Например, футбол — это не только в высшей степени хорошо организованная символическая система (собственно, он и был изобретен в Англии для обучения «членораздельному» поведению). Успешная игра команды предполагает также ее «сыгранность», т.е. интуитивное, даже подсознательное понимание игроками друг друга и их мгновенную реакцию на игровую ситуацию. Еще одним примером «сыгранной» и «голографической», но при этом конкурентной общности может служить биржа и живое взаимодействие брокеров.
Нестандартизованные, «нечленораздельные» отношения — это важная причина, почему существуют не только рынки, но и организации. Позволю себе привести старый пример [Широнин 2013]. В середине 1990-х годов я занимался изданием справочников о том, как функционируют различные экономические институты в России. Среди прочего возникла мысль описать, как работает государственное статистическое ведомство — Госкомстат. Оказалось, что Госкомстат не производил информацию, основываясь на
Еще раз отметим, что в реальности «членораздельные» и «голографические» системы всегда встречаются в некоторой комбинации и проникают друг в друга. Тем интереснее наблюдать примеры, когда их естественный баланс смещается, причем часто такие случаи могут вызвать повышенную эмоциональную реакцию. Так, несколько веков назад поведение должника и кредитора было стандартизовано в гораздо меньшей степени, и передача векселя могла восприниматься, как чуть ли не перепродажа обещания жениться. Сегодня часто столь же эмоционально может восприниматься такое «нашествие членораздельности» на семейные отношения, как ювенальная юстиция.
«Сыгранность» — это та основа, на которой держатся отношения в семье или между старыми друзьями. Поэтому традиционная сфера «голографического» — это отношения между мужчинами и женщинами. Тем не менее нужно сказать, что существовавшая в последние десятилетия (и даже столетия) экспансия «членораздельности» постепенно захватывает и эту сферу. В качестве примера можно привести недавнюю публикацию [Соколов-Митрич], обсуждающую целесообразность брака как такового в свете доступности для мужчины из среднего класса того, что автор называет «пакетом женских услуг как альтернативы браку с эмансипированной особой».
Приложения модели
Говоря о приложениях, стоит сделать общее замечание о роли научных теорий. Еще один Нобелевский лауреат Роберт Ауманн [Aumann 1985, p. 6] назвал наивным представление, согласно которому теории существуют, прямо или косвенно, для практических целей. Менее наивно, но все равно ошибочно считать, что теория ценна своей предсказательной силой. На самом деле научные теории и модели — это инструменты понимания, причем в очень широком смысле. Их ценность не
Институциональное развитие Западной Европы и России
Когнитивный подход дает возможность связать между собой результаты очень разных исследований и понять общую логику институционального развития и взаимодействия России и Западной Европы.
Мы можем отметить четыре главные точки развития западноевропейских институтов. Каждому из этих этапов соответствовала реакция России и способ ее участия в изменяющейся мировой системе.
Первый важнейший момент связан с принятием христианства и отличиями западнохристианского от
Второй этап был связан с «Папской революцией» — изобретением примерно к XII веку в Европе нового способа организации социальных общностей в виде «членораздельных» систем на основе права. Как убедительно показал Гарольд Берман [Берман 1998], в результате не только католическая церковь стала самостоятельной корпорацией, управляемой посредством права, но возникли также другие правовые системы, общественные структуры и мировоззренческие парадигмы. Можно сказать, что Россия пропустила этот момент — как
Третий этап в европейской истории был продолжением того, что произошло на втором. «Членораздельная» модель общественной организации стала бурно развиваться и распространяться. Возникла современная наука. Родился протестантизм как отрицание роли церкви и, взамен этого, подчинение человека безличной религиозной парадигме [Вебер 1990]. Сложился капитализм. Появилась новая военная система, связанная с использованием масс единообразно обученных солдат [Пенской 2010]. Военная революция привела к появлению абсолютистских монархий и военной промышленности.
Наша страна смогла довольно успешно конкурировать во многих этих областях, используя свои имевшиеся социальные формы и институты — в первую очередь, культурный потенциал христианства, но также и архаические технологии власти — прикрепление людей к самой власти и к другим общественным структурам, разделение людей на «состояния» [Миронов 1999]. В то же время многие европейские институты (или лучше сказать, организационные формы) были импортированы, причем (особенно поначалу) — на более или менее внешнем уровне.
Последним из рассматриваемых ключевых моментов развития Запада было появление к XIX веку стандартизованного массового общества — формирование наций, введение всеобщего призыва в армию, создание систем образования и т.д., в результате чего возникли единые информационные контексты, обеспечившие единообразное понимание тех элементов, из которых сложена жизнь [Геллнер 1991]. Эти изменения были так глубоки и так широко распространились, что проникновение в XIX веке в Россию новых образцов поведения — в виде технологий, знаний и идеологий — нельзя было остановить. С одной стороны, это привело к появлению интеллигенции и включению русского общества в мировой интеллектуальный процесс — что дало блестящие результаты. С другой — вызвало в России медленную деградацию старых институциональных механизмов. При этом опять оказалось, что из всех чужих изобретений именно институциональные инновации заимствуются русской культурой и обществом хуже всего. Когда в результате Первой мировой войны и вызванного ей кризиса прежняя система рухнула, на смену ей смогла прийти только более жесткая и последовательная институциональная структура того же старого типа — партия большевиков.
Заметим, что определяющие факторы институционального развития России сильно отличаются от того, что имеет место на Западе. Одной из главных движущих сил там является прогресс, который связан с индивидуальными инновациями, основанными на свободе людей предлагать новые решения, как технические, так и институциональные. Второй важнейший фактор — это политическая борьба групп и классов за свои интересы. В России общественное развитие было всегда связано в первую очередь с огромными напряжениями, возникающими между разными структурными подсистемами общества — между крестьянами и дворянами, между интеллигенцией и властью, между старой и новой армией, между национальными интересами, наконец, между страной в целом и внешним миром. Имперская структура власти и организации общества в России всегда давала возможность не выравнивать условия жизни и правила игры в разных частях системы, сохраняя их самобытность. Это давало нашему обществу энергию развития. С другой стороны, это часто приводило к таким диспропорциям и в правилах игры и в образах жизни, которые ломали саму систему.
Диагностика социальных сред
Несмотря на такое «победное шествие членораздельности», «голографические» модели в ряде случаев обладают преимуществами. Прежде всего, это связано с их гибкостью и проявляется в нестабильных средах. В качестве примера приведем такую характеристику нынешней «команды Кремля» [Павловский 2012, с. 4]:
В чем великолепие российской власти? Ей все заведомо по плечу. Мы уверены, что всякая цель достижима силами данной команды <…> Считая себя ультракомпетентной, власть пренебрегает простой управленческой компетентностью. Нас попрекают тем, что мы не умеем ничего толком организовать <…> Наша некомпетентная сверхкомпетентность — командное свойство. Команда власти всегда готова проявить компетентность в вещах, о существовании которых еще вчера не знала. Отсюда ее кадровый застой: импровизатора заменить некому, его опыт уникален.
С точки зрения результативности «голографическая» модель организации имеет свои преимущества. Например, ученый или врач, работающий в более «голографической» среде, может чувствовать себя гораздо свободнее, чем специалист, связанный системой разделения интеллектуального труда и социальными отношениями в «членораздельном» профессиональном сообществе. «Голографический» ученый не обязан пользоваться понятийным аппаратом, разработанным его коллегами, и может позволить себе «изобретать велосипед». У него гораздо меньше условий для занятий нормальной наукой [Кун 2009], но тем больше причин создавать «большие» мировоззренческие системы вроде таблицы Менделеева.
По сравнению с «членораздельной», в «голографической» системе идеи гораздо меньше технологизируются, они не разбиваются на цепочку переходов от чистой теории к прикладной и дальше к практике. Специализация и разделение интеллектуального труда происходит менее глубоко. Специалист вынужден и склонен мыслить концептуально, он осваивает свой предмет целиком и способен подходить к конкретным задачам творчески. Он может быть в курсе нескольких различных теоретических систем, прочел соответствующие монографии и статьи, и способен предложить нестандартное решение. Правда следует сказать, что неквалифицированному или недобросовестному специалисту «голографическая» система дает и гораздо больше возможностей развалить дело.
Реальная и очень интересная задача состоит в том, чтобы построить на основе наших когнитивных моделей методику для работы на микросоциологическом уровне, т.е. для эмпирического исследования и диагностики малых групп, таких как, скажем, семья или корпоративная культура организации. К сожалению, эта задача пока не решена, и здесь мы сможем только обсудить некоторые соображения по построению такой исследовательской программы.
Перечислим основные черты «членораздельной» и «голографической» модели и попробуем понять, с помощью каких социологических измерений можно определить присутствие этих параметром и их значение в жизни исследуемой социальной единицы.
Для «членораздельной» модели такими параметрами, по-видимому, будут:
• наличие стандартизованных шаблонов поведения, которые не являются привычками отдельных членов группы, а воспроизводятся многими людьми,
• четкое разделение отдельных элементов поведения; разделение обязанностей,
• разделение труда и достаточно узкая профессиональная специализация, часто сопровождающаяся отсутствием представления о смысле и организации деятельности данной группы (организации) в целом,
• «прозрачность», т.е. общая доступность информации как о стандартах, так и о фактическом поведении людей,
• разделение личных и профессиональных отношений, privacy,
• свобода в рамках своей сферы компетенции в сочетании с негативным отношением к вмешательству в чужие дела,
• наличие механизмов для поддержания стандартов поведения и борьбы с отклонениями от этих стандартов,
• отчуждение результатов деятельности в виде некоторого объективного продукта,
• оценка деятельности по ее результату; индивидуализм в достижении результатов,
• объективность в определении как формальных, так и неформальных статусов людей на основе результатов их деятельности,
• в то же время большое внимание к выполнению формальных правил поведения как таковых, безотносительно к их смыслу и результату (нужно вовремя приходить на работу, выполнять договоренности, соблюдать технологию и правила, соответствовать дресс-коду и т.п.).
В отличие от этого в качестве признаков «голографической» модели можно назвать:
• большое разнообразие индивидуального поведения, отношений между людьми и способов решения однотипных задач,
• отсутствие разграничения сфер деятельности, разделения труда, широкое распространение взаимопомощи и взаимовыручки,
• наличие у людей интереса и своего понимания деятельности данной социальной группы (организации) в целом,
• отсутствие прозрачности, индивидуализация отношений между людьми, негативное отношение к попыткам «вынести сор из избы»,
• смешивание формальных и личных отношений, отсутствие privacy, «семейные отношения» на работе,
• «договорность» относительно стандартов поведения, отсутствие ясных процедур для их поддержания, наличие множества неформальных и обходных способов для решения проблем,
• ориентация в большей степени на процесс, а не на результат деятельности; коллективизм в достижении результатов,
• неформализованное определение репутаций и статусов в группе на основе множества разнородных факторов,
• невнимательное или даже негативное отношение к «соблюдению формальностей», особенно если это идет вразрез с целесообразностью в данном конкретном случае,
• креативность и нестандартность подходов.
Для целей эмпирической диагностики можно использовать обычную технику социологических вопросов, скажем, преобразовав эти параметры в конкретные вопросники и сценарии интервью.
Когнитивная наука и богословие
Насаждая в России науку, Петр I «забыл» про богословие , и как одно из следствий этого, богословская культура мало присутствует в нашем образовании. Независимо от личных отношений с религией, об этом можно только сожалеть, поскольку жизнь любого общества строится на основе некоторых самых общих представлений, которые либо прямо заданы религией, либо чаще всего унаследованы от мировоззренческой системы какого-либо вероучения.
Опираясь на замечательную книгу [Мейендорф 1985], попробуем здесь коротко прокомментировать в когнитивных терминах мировоззренческие различия между
Наше утверждение состоит в том, что и картина мира, и социальное поведение в системе католицизма организовано скорее по «членораздельному» символическому принципу, а в православной системе — скорее по «голографическому».
Действительно, организация жизни по символическому принципу означает, что как словарь понятий, с помощью которых люди воспринимают и передают информацию, так и «словарь» поведенческих шаблонов, имеют вне-личностный характер, они стандартизованы и заранее известны. Это «конструктор», собравший в себе коллективное знание, и тем самым создающий возможности для индивидуального творчества в определенных масштабах. Творчество же должно также следовать некоторым внеличностным правилам «грамматики».
Но именно такова традиция западной богословской антропологии, идущая от Августина: «для спасения человеку необходимо нечто добавочное, внешнее, а именно благодать, которой он по природе своей не обладает и которая может быть дарована одним лишь Богом» [с. 18]. При этом, пишет Мейендорф, «западная мысль навсегда разделалась с Богом, поместив Его на небесах и занявшись решением человеческих проблем в нашем мире без Него» [с. 225]. Практическим же источником стандартов стала служить Церковь, причем понимаемая как отдельная корпорация. Таким образом, «равновесие между церковным авторитетом и харизмой отдельных личностей было нарушено <…> в пользу формального авторитета церковной иерархии. В
В противоположность этому, православный человек ощущает себя как бы пребывающим в «онлайновой» связи с Богом и всем миром: Дух Божий присущ человеку «по природе». «Истина принадлежит Богу, который открывает ее всем людям. Знание истины не является прерогативой ни лиц, занимающих высокие административные должности, ни тех, кто успешно завершил свое высшее образование» [с. 53]. «Мы верим в личного, живого Бога, а не в философские формулы и убеждения» [с. 113] — такого рода цитаты можно продолжать.
Таким образом, знание — и жизнь вообще — в православной картине мира оказываются «размазанными», они не сводятся ни к логике, ни к эмпирическим фактам, ни к внешнему авторитету. В этом смысле очень характерна разница в православном и западном отношении к мистике: «Подозрительное отношение к мистицизму распространено и в современном западном богословии» [с. 209]. В когнитивном же смысле, мистику можно опять-таки интерпретировать как проявления «голографичности», как явления, не локализованные ни в
Русская литература
Вернемся от метафорического к буквальному значению слова «голограмма» и вспомним, как она технически устроена. На объект, изображение которого хотят получить, направляют луч света (обычно от лазера) и фиксируют картину взаимодействия этого луча и света, отраженного объектом :
Когда записывают голограмму, в определённой области пространства складывают две волны света: одна из них идёт непосредственно от источника (опорная волна), а другая отражается от объекта записи (объектная волна). В этой же области размещают фотопластинку (или иной регистрирующий материал), в результате на этой пластинке возникает сложная картина полос потемнения, которые соответствуют распределению электромагнитной энергии (картине интерференции) в этой области пространства. Если теперь эту пластинку осветить волной, близкой к опорной, то она преобразует эту волну в волну, близкую к объектной. Таким образом, мы будем видеть (с той или иной степенью точности) такой же свет, какой отражался бы от объекта записи (Википедия).
В результате получается изображение, которое будет не плоским, а объемным, и которое можно видеть в трехмерном пространстве. Оказывается, что аналогичным образом можно получать «объемные» картины не только в буквальном смысле слова, но и добиваться особой выразительности в литературных произведениях. Мы попробуем пояснить эту мысль на примере писательской техники Чехова и Достоевского.
Писатель изображает своих героев в свете своего мировоззрения, помещая их в свое когнитивное пространство. Подобно тому, как для ученого всегда «факты теоретически нагружены», т.е. не существуют вне его теоретических представлений, для писателя создаваемое им произведение — это тоже одновременно и демонстрация его картины мира. Разумеется, это всегда так, однако устройство, «архитектура» собственного когнитивного пространства писателя может быть различной. Он может помещать свои персонажи в общепринятое «членораздельное» пространство стандартизованных образов и понятий. В других случаях «свет мировоззрения» писателя может быть организован «голографически».
Постоянно цитируемая фраза о том, что «Чехов — это Пушкин в прозе», имеет менее известное продолжение — мысль Толстого состояла в том, что Чехов, как и Пушкин, создал новую форму письма, но не его содержание. Такая оценка перекликается с многочисленными упреками — по сути дела, с общим мнением современников Чехова, считавших его чуть ли не коллекционером бытовых мелочей, чуждым каких-либо высоких идеалов и общественных убеждений. Между тем, как показывает Витторио Страда в своем небольшом, но очень глубоком очерке о Чехове [Страда 1995], писатель, которого обвиняли в отсутствии всяких идеалов, явился — как и Пушкин — носителем самого универсального идеала русской литературы — идеала цивилизации. Именно это и служило «лучом лазера», в свете которого Чехов показывал своих героев.
Известно, что Толстой, которому очень понравился чеховский рассказ «Душечка», решил, что автор хотел «посмеяться над жалким, по его рассуждению (но не по чувству), существом, <…> но бог поэзии запретил ему и велел благословить, и он благословил и невольно одел таким чудным светом это милое существо» [Толстой 1906]. Приходится сказать, что один великий писатель, оценив результат, не понял технику работы другого — а именно, технику, состоящую в использовании гораздо более совершенного — «голографического» — инструмента изображения. Этим инструментом был именно «чудный свет» этого чеховского «луча лазера» — мировоззрение и ценности самого автора.
Прием Достоевского иной, он не монологичен, а диалогичен [Бахтин 2002, с. 20].
В монологическом замысле герой закрыт, и его смысловые границы строго очерчены: он действует, переживает, мыслит и сознает в пределах того, что он есть, то есть в пределах своего как действительность определенного образа; он не может перестать быть самим собою, то есть выйти за пределы своего характера, своей типичности, своего темперамента, не нарушая при этом монологического авторского замысла о нем. Такой образ строится в объективном по отношению к сознанию героя авторском мире; построение этого мира — с его точками зрения и завершающими определениями — предполагает устойчивую позицию вовне, устойчивый авторский кругозор. Самосознание героя включено в недоступную ему изнутри твердую оправу определяющего и изображающего его авторского сознания и дано на твердом фоне внешнего мира.
Иначе говоря, герой изображается в этом случае как вещь, отчужденная и сохраняющая свои свойства. Монологичность соответствует плоской фотографии и «членораздельности». Достоевский же не фотографирует своих героев, он рисует их объемно в отраженном свете их взаимодействия с внешним миром, друг с другом. Это именно то, что Бахтин называет диалогичностью Достоевского. «Светом», падающим на фигуру героя, здесь служит личность другого героя:
Человек никогда не совпадает с самим собой. К нему нельзя применить формулу тождества: А есть А. По художественной мысли Достоевского, подлинная жизнь личности совершается как бы в точке этого несовпадения человека с самим собою, в точке выхода его за пределы всего, что он есть как вещное бытие, которое можно подсмотреть, определить и предсказать помимо его воли, «заочно». Подлинная жизнь личности доступна только диалогическому проникновению в нее, которому она сама ответно и свободно раскрывает себя.
Правда о человеке в чужих устах, не обращенная к нему диалогически, то есть заочная правда, становится унижающей и умерщвляющей его ложью, если касается его «святая святых», то есть «человека в человеке» [с. 127].
Пример творчества Достоевского и Чехова и анализ Бахтина и Страда представляются мне исключительно важными для понимания особенностей когнитивных сред, не имеющих знаковой природы. Именно так, по-видимому, работает русская литература и вообще русская культура.
Литература
Авен П.О., Широнин В.М. (1987). Реформа хозяйственного механизма: реальность намечаемых преобразований // Известия СО АН СССР, №13, сер. Экономика и прикладная социология. Вып. 3, с. 33-37.
Авен П., Кох А. (2013). Революция Гайдара: История реформ 90-х из первых рук. М.: Альпина Паблишер.
Бахтин М.М. (2002). Проблемы поэтики Достоевского. Работы 1960—1970 гг. М.: Русские словари; Языки славянских культур.
Берман Г. (1998). Западная традиция права: эпоха формирования. М.: ИНФРА-М — НОРМА.
Вебер М. (1990). Избранные произведения. М.: Прогресс.
Геллнер Э. (1991). Нации и национализм. М.: Прогресс.
Корнаи Я. (1990). Дефицит. М.: Наука.
Кун Т. (2009). Структура научных революций. М.
Лосский В.Н. (1972). Догматическое богословие // Богословские труды. №8. С. 131-183.
Мейендорф И.Ф. (1985). Введение в святоотеческое богословие. Нью-Йорк (первое издание). Цит. по: http://pstgu.ru/download/ 1159960963.Vvedenie.pdf
Миронов Б.Н. (1999). Социальная история России периода империи (XVIII-начало XX в.). СПб.: Дм. Буланин (первое издание).
Найшуль В.А. (1985). Другая жизнь. М.: Самиздат.
Найшуль В.А. (2006) Букварь городской Руси. Семантический каркас русского общественно -политического языка. –http://polit.ru/article/2006/02/03/naishul_bubu/
Норт Д. (2010). Понимание процесса экономических изменений. М.: ГУ ВШЭ.
Павловский Г.О. (2012). Гениальная власть! Словарь абстракций Кремля. М.: Европа.
Пенской В.В. (2010). Великая огнестрельная революция. М: ЭКСМО.
Полит.ру (2006). http://www.polit.ru/topic/zmeinka/
Поппер К. (1983). Логика и рост научного знания. М.: Прогресс.
Соколов-Митрич Д. (2010). Мужское счастье http://vz.ru/columns/ 2010/3/11/382612.html
Страда В. (1995). Антон Чехов // История русской литературы XX века. Серебряный век. М.: Прогресс — Литера, с. 48-72.
Толстой Л.Н. (1906). Послесловие к рассказу Чехова «Душечка» // «Круг чтения», т. 1. М., с. 434—438.
Широнин В.М. (1984). Механизмы координации производственной деятельности // Сравнительный анализ хозяйственных механизмов социалистических стран: Сб. трудов / Всесоюзный научно-исследовательский институт системных исследований. Вып. 15. М., с. 37-46.
Широнин В.М. (2010) Институты и инновации: взгляд когнитивной науки // Вопросы экономики. №5, с. 43-57.
Широнин В.М. (2010 б) У истоков «московско-ленинградской» экономической школы. // «Экономика и управление собственностью», №1 (специальный выпуск, посвященный памяти Е.Т. Гайдара). С. 16-20.
Широнин В.М. (2013). Когнитивная среда и институциональное развитие. СПб.: Изд-во СПбГЭУ.
Шмеман А.Д. (1954). Исторический путь православия. Нью-Йорк (первое издание).
Aumann, R. (1985) What is game theory trying to accomplish? // Arrow, K. and Honkapohja, S. Eds. Frontiers of Economics. Basil Blackwell. Oxford, pp. 5-46.
Cerulo, Karen A. Culture and Cognition Network: http://www.sas.rutgers.edu/virtual/cultcog/cultcog.html
Cicourel A. (1974). Cognitive Sociology: Language and Meaning in Social Interaction. New York: Free Press.
Dawson, Michael R.W. (1998).Understanding Cognitive Science. Wiley-Blackwell.
Diamond P.A. (2010). Unemployment, vacancies, wages. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2010/ diamond-lecture.html
DiMaggio, Paul (1997). Culture and Cognition. // Annual Review of Sociology 23 (25): 263–287.
DiMaggio, Paul J. and Walter W. Powell. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. // American Sociological Review 48:147-160.
DiMaggio, Paul J. and Walter W. Powell. (1991). Introduction. Pp. 1–38 // The New Institutionalism in Organizational Analysis. Edited by Walter W. Powell and Paul J. DiMaggio. Chicago: University of Chicago Press.
Коrnаi J. (1980). Economics of Shortage. Amsterdam etc.
Meyer, John. W., and Brian Rowan. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. // American Journal of Sociology, 83(2): 340-363.
North D.C. (1993). Economic Performance through Time. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/ 1993/north-lecture.html
Sejnowski, Terrence J., Rosenberg, Charles R. (1987). Parallel Networks that Learn to Pronounce English Text. // Complex Systems 1, 145 -168.
Society and Language Use. (2010). Edited by Jürgen Jaspers, Jan-Ola Östman, Jef Verschueren. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamin’s Pub. Co.
