«Авиатор» Евгения Водолазкина
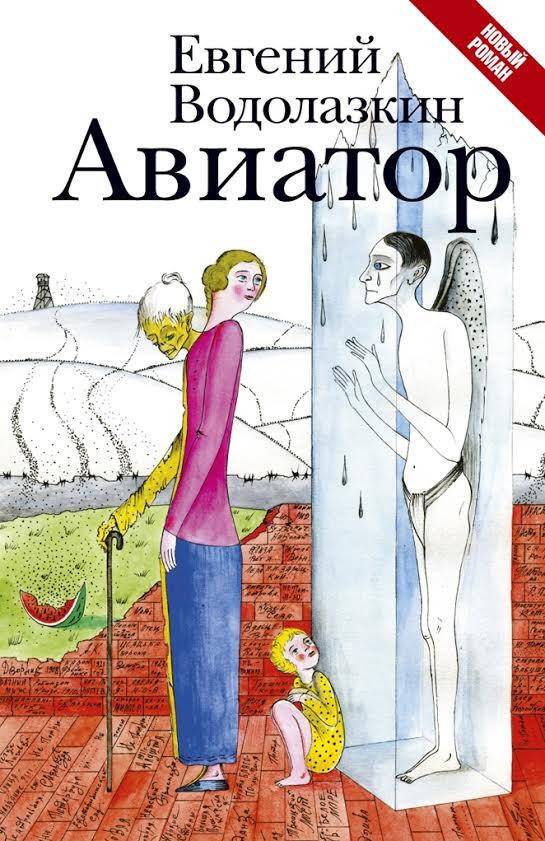
Неизвестно, как будет читаться «Авиатор» через пять или десять лет, но сейчас, когда мы каждый день «вспоминаем» прошлое (репрессии, к примеру) и хотим понять, зачем был весь этот ужас, а иногда даже серьезно спорим по поводу его оценки (ну то есть хоть чем-то оправдать или безоговорочно осудить), эта книга-ларчик вроде бы, на первый взгляд, просто открывается — и действует отрезвляюще. Причем не потому, что автор относится к режиму как-то однозначно (скажем, главный герой, побывавший на Соловках, ни в какую не хочет ругать власть и говорит, что без вины не сажают; самое интересное — в конце романа оказывается, что у него были причины так говорить).
Книга отрезвляет, показывая, что «вспоминаем» мы вообще не то. И показывается это, опять же, без всяких потайных ходов. По фантастическому допущению автора герой, вроде бы как закончивший существование в 1930-х, очутился в 1999-м и, свидетель таких интересных событий, начинает всех удивлять своими «странными» воспоминаниями. Огненно-желтые листья слетают на пожарных, едущих тушить пожар. Гниды щелкают, когда их прижимаешь ногтем. Старьевщик на улице кричит. Лошадь цокает копытами. Самовар закипает…
Репортеры спрашивают героя о дне Революции, а ему, например, вспоминается совсем другой, на его взгляд не менее важный день, когда в ярко освещенной зале стояла елка, окруженная хороводом. Несовпадение «колоколен», с которых на события века глядит новый человек и современник этих самых событий, ярче всего, пожалуй, проявляется в сцене, когда герой рассказывает своему лечащему врачу о работе в лагере в сорокаградусный мороз, без теплой одежды, обуви и еды. Доктор не понимает, «как в таких условиях можно было остаться живым», а герой, правда, про себя, отвечает: «Так ведь и не оставались».
С другой стороны, попадание в будущее меняет позицию героя относительно самых разных жизненных вопросов. Осмотревшись и поняв, что в 99-м про его время никто ничего не помнит (большие события не в счет), он начинает записывать все мало-мальские воспоминания для своей дочери, чтобы она, когда вырастет, хоть что-то знала и помнила. Вспоминая лагерь и тамошнего начальника, он вдруг понимает, что до сих пор ненавидеть этих канувших в лету людей значит признавать, что они стали частью нас, живых. Наконец, он с ужасом замечает, что в лагере ему было больно, зато он не боялся умереть — а сейчас боится.
Поэтому «Авиатор», конечно же, и слава богу, не про режим и не про лагеря. Просто на их фоне «разность памяти» особенно заметна. Если же отпрянуть от контекста — и нынешнего, и того, в котором жил когда-то герой, — останется книга о памяти вообще и о самой возможности разнородной, меняющейся памяти. О памяти, которая и хранит прошлое и становится пропуском в будущее. О памяти как смыслообразующей для человека вещи, вокруг которой собираются все остальные камешки его жизни. О памяти, которая, лучше любой идеологии, обобщает опыт и стремления какого-либо общества. О памяти, которая, в конце концов, воплощается в конкретных людях. С этой точки зрения роман гораздо шире, сложнее, многослойнее. (К слову о слоях, нельзя не заметить, что эти самые слои — введение новых персонажей, их странные загадки, разбросанные по всему роману, неожиданные повороты истории — расставлены в тексте прямо-таки с машинной аккуратностью, что, впрочем, совсем не делает роман механическим.)
Несмотря на совсем небольшой объем, «Авиатор» умудряется вмещать как раз настолько много неоднозначных вопросов к читателю, он как раз настолько многогранен, что один из главных советов по отношению к нему — прочесть и через
