Больше, чем физика. Часть 19. Узнать, что есть жизнь и смерть?
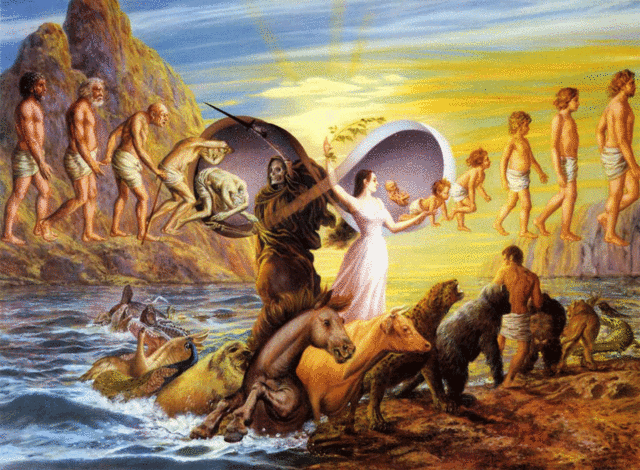
Над смертью властвуй в жизни быстротечной
И смерть умрёт, а ты пребудешь вечно
(Уильям Шекспир)
На эту тему я собирался говорить сразу после второго начала термодинамики. Раз уж была произнесена фраза «тепловая смерть Вселенной», значит, надо было ответить на этот вопрос. Но тут, как-то сами собой, новые темы стали выскакивать, будто чёртики из табакерки: развитие, эволюция, цивилизация, космос. Как будто нарочно кто-то откладывал этот серьёзный разговор. Хотя, конечно, не
Я ломать внутреннюю логику не стал, пустив сюжет по воле волн. И волны мыслей пустили меня по обходному пути. И не зря, потому что, как теперь я это вижу, тогда, сразу после 14-го выпуска, к разговору на тему жизни и смерти мы с вами были ещё не готовы. Может быть, мы и теперь к такому разговору готовы не вполне, но дальше откладывать просто некуда. Будем говорить об этой, самой волнующей для человека, стороне бытия.
Итак, вернёмся туда, откуда я планировал заходить с самого начала: к термодинамике. Что есть термодинамические системы? Это — замкнутые системы, которые ведут себя определённым образом. А именно, подчиняются двум законам (или двум началам) термодинамики. Первое начало говорит о том, что полная энергия замкнутой системы всегда постоянна, а второе начало говорит о том, что энтропия замкнутой системы может либо расти, либо оставаться неизменной, но никогда не уменьшается. И, как следствие, любая замкнутая система должна, рано, или поздно, прийти к такому состоянию, в котором энтропия будет максимальной, и больше из него уже не выйдет. Все процессы в этом состоянии прекратятся, а система придёт в состояние полного равновесия.
Потом мы сделали оговорку, что не все системы описываются с помощью термодинамики, и начали говорить об этих системах. Есть такие системы, которые стремятся не к равновесию, не к упрощению, а, наоборот — к усложнению, к развитию. Такие системы называют саморазвивающимися, и примером таких систем являются живые организмы. Получается, что жизнь — это такое явление, которое противостоит второму началу термодинамики. Мало того, само происхождение жизни во Вселенной нарушает всевластие второго начала термодинамики, поскольку появление даже самых примитивных живых организмов — одноклеточных, уже являлось серьёзным усложнением.
Тут мы можем выдвинуть две версии. Либо жизнь во Вселенной появилась случайно, либо, помимо второго начала термодинамики, во Вселенной действует какой-то параллельный принцип, действие которого приводит к постоянному усложнению и развитию. Учёные так до сих пор не сошлись во мнении, было ли появление жизни случайным, или закономерным?
Итак, что такое жизнь? Сказать, что это — форма существования белковых тел, это, значит, непозволительно упростить разговор. Хотя бы потому, что теоретически возможно формирование живых организмов и не на белковой основе. И, вполне возможно, что в космосе мы ещё неоднократно столкнёмся с небелковыми формами жизни. Но и не только поэтому, а ещё и потому, что такое определение жизни — не функционально. Ну, белок, ну что? Суть-то не в белке, суть в том, что живой организм, в отличие от не живого, способен к саморазвитию, способен понижать энтропию. То есть, жизнь — это то, что не вписывается в законы термодинамики. Биологические системы не являются термодинамическими. Притом, что живые организмы имеют температуру и другие термодинамические параметры, они имеют ещё
Но, так уж сложилось, что самое интересное в современной науке находится в пограничных областях. Биология, хоть и описывает жизнь, но, чтобы дойти до сути жизни, надо дойти до границы биологии с физикой. Где биология переходит в физику? Там где, живое соприкасается с не живым. А значит, как не избегай разговора о смерти, жизнь без него понять невозможно.
Мы с детства знаем, что нас окружают неодушевлённые предметы, которые не являются живыми. Дом, мебель в доме, посуда, одежда, — всё это не живое. В то же время, мы не можем на все эти вещи сказать, что они — мёртвые. Мёртвое это что-то такое, что связано с живым, более тесно, чем просто неодушевлённые предметы. Мёртвое — это то, что было живым, но утратило что-то, что делало его таковым. Не душу. Это о человеке мы ещё можем сказать, что в момент смерти его тело покидает душа, о животных и растениях мы такого сказать не можем. Да и существование человеческой души — вопрос, более чем спорный. Но
Чтобы разобраться в этом вопросе, одной биологии мало, и физики с химией мало. Ведь не даром к теме жизни и смерти постоянно обращались художники. Почти у каждого великого писателя, композитора, живописца есть произведение, в котором автор пытается проникнуть в тайну жизни и смерти. Пожалуй, одним из самых ярких таких произведений является «Реквием» Моцарта. Я не буду рассказывать историю его написания, одни её и так знают, а другие могут узнать самостоятельно, благо, интернет у всех под рукой.
Ещё можно вспомнить гравюры Дюрера, и распространённые в средневековой Европе фрески под общим названием «Danse macabre». На русский язык это переводят как «Пляска смерти», но перевод не точный, поскольку в русском языке нет аналога слова «macabre», в нашем языке нет таких страшных слов.
Позже к теме «Danse macabre» обращались и писатели, и композиторы. Эти произведения искусства интересны тем, что там показана не просто встреча человека со смертью, а соприкосновение человека с его мёртвым Я. И, опять-таки, слово «мёртвый» — это не совсем верный перевод греческого слова «necros». Всё-таки, в русском языке значительно меньше синонимов смерти, чем в западноевропейских языках. Возможно, именно поэтому мы не всегда можем понять европейцев. В нашей культуре не было тех страхов, которыми жили в средневековье народы Западной Европы.
Но тема жизни и смерти так же волновала наших художников, как и европейских. Тут можно вспомнить и Гоголя, и Достоевского, и Пушкина. Каждый из них, так, или иначе, пытался заглянуть туда, за край, в мир теней, или, как его называли древние славяне: в навь, навье царство. Но в качестве литературного примера я обращусь, как ни странно, не к этим великим писателям, а к автору, в
Помните, я говорил как-то, что художник попадает в мир невозможного случайным образом, поскольку, не зная физики, не знает туда дороги. А потому, походы туда опасны для его душевного здоровья. Да и не только для душевного, поскольку многие, чтобы заглянуть туда, используют различные стимуляторы, из которых алкоголь — ещё относительно безобидный. И вот, так вышло, что верной дорожкой протопал туда писатель, хоть и интересный, но совсем не великий. Писатель-фантаст Михаил Успенский, прославившийся трилогией под общим названием «Приключения Жихаря». Третья часть этой трилогии называлась «Кого за смертью посылать?», и описывается в ней мир, из которого исчезла смерть.
Поначалу, конечно, все были рады, но потом стали замечать вещи весьма неприятные. Люди стали сонными, вялыми, перестали работать, даже думали с трудом. Дальше больше, ничего нельзя толком приготовить: курицу варишь, жаришь, она шевелится, даже в пепел сожги, и тот крыльями машет. Где-то в поле сошлись два войска, порубили друг друга, и ползают по полю отрубленные части тел. В купальную ночь собрались девки с парнями у костра, да так всю ночь у костра и просидели, никто ни к кому не приставал. Нет смерти, нет нужды и размножаться. И вот тут до героев доходит, что никакой смерти до этого в мире не было, а вот теперь-то и пришла настоящая смерть. Даже не так, с большой буквы: Настоящая Смерть.
Да, это очень похоже на описание тепловой смерти Вселенной.
Сюжет произведения я пересказывать не буду, скажу лишь, что, в конце концов, главный герой нашёл смерть. А вот на эпизоде встречи героя со смертью, я, пожалуй, остановлюсь подробно:
На краю ямы стояла девчонка в пестром сарафане.
Жихарь протер глаза от каменной пыли.
Девчонка была хорошенькая, тоненькая, белозубая. Цветы на сарафане все
время менялись: только что были ромашки, а теперь уже анютины глазки, а
теперь цвет шиповника…
— Здорово, — сказал Жихарь. — Ты, что ли, Смерть будешь?
— Нет, — засмеялась девчонка. — Смерть вот какая…
И сразу же превратилась в высокую старуху с белым лицом в сером балахоне.
Все зубы у старухи были наружу.
— Вот я какая, — сказала Смерть хрипло. — Признали?
Жихарь погрустнел.
— Не убереглись мы, значит, — сказал он. — Ну, веди — вот тебе рука.
Он ухватился за протянутую голую кость, и под его пальцами кость снова
обросла молодой крепкой плотью.
— Признали? — снова спросила девчонка.
— Так ты, значит…
— Да! — крикнула девчонка и закружилась вокруг него. — И она — это я, и
сама я — это я! Как же ты до сих пор не понял?
Я надеюсь, вы поняли, что имел в виду автор? Да, жизнь и смерть — это две стороны одного целого. Или, выражаясь языком диамата, составляют диалектическое единство. Слово «диамат» для многих, наверное, незнакомое, расшифровывается оно как диалектический материализм. И если физика — это наука о наиболее общих законах природы, то диамат — это наука о ещё более общих закономерностях. Хотя, на первый взгляд, тяжело себе представить что-то более общее, чем физика, но оно есть. А, чем мы собственно с вами и занимаемся? Больше, чем физикой. Вот диамат — это тоже больше, чем физика. Но о диалектических закономерностях — уже в следующий раз.
