От «Социальной справедливости и города» к women-friendly городам? Феминистская теория и политика
В начале 70-х годов прошлого века произошли колоссальные социальные потрясения; новые общественные движения заняли доминирующую позицию в городском социоландшафте. Социальные науки столкнулись с кризисом актуальности, и книга Дэвида Харви «Социальная справедливость и город» была одним из ответов на этот кризис. Несмотря на актуализацию женского движения в 70-х, женщины практически невидимы в книге. Подобная слепота была типична для академических исследований того времени и анализировалась теоретиками феминизма в их критике классической марксистской теории. Женщины начали проблематизировать разделение публичного и частного в более широком социологическом контексте, что положило начало репрезентации женщин как личностей, а не приложений к мужчинам. Произошло переопределение «политического», имевшее целью сделать город (и Северную Америку) более благоприятным для женщин. Феминистки внесли якобы «частные» вопросы в муниципальную повестку дня. Это можно проиллюстрировать примером феминистского активизма в Торонто, направленного на борьбу с мужским насилием над женщинами. В последние 20 лет феминистки пользовались импульсом, происходящим из предположения о существовании универсального общеженского опыта угнетения. В 1990-х социологи столкнулись с кризисом репрезентации, основанной на универсальных истинах и дискурсах тотальности. Это требует пересмотра социальной справедливости в городской среде, чувствительной к различиям и разнообразию.

Харви переопределяет общественную географию
«Социальная справедливость и город» была написана во время невероятного социального и политического подъема в городах Северной Америки. Симптомы urban malaise включали в себя возобновление бедности, постоянное обнищание и классовое неравенство, «расовые» бунты и студенческие протесты. Возникли новые движения сопротивления, в том числе возрождение феминизма, а также движений за гражданские права и
«…очевидно расхождение между используемыми нами сложными теоретическими и методолигческими схемами и нашей способностью сказать что-либо по-настоящему значимое о происходящих вокруг нас событиях. Слишком много аномалий встречается в зазоре между тем, что мы намерены объяснить и чем собираемся управлять, и тем, что происходит в действительности. Есть экологическая проблема, городская проблема, проблема международной торговли, и при этом мы, кажется, не можем сказать ничего толкового или глубоко продуманного хоть об одной из них. Когда мы всё же высказываемся на этот счёт, то выходит как-то банально и совсем не солидно. Короче, наша парадигма явно не справляется. Она созрела до такой степени, что скоро лопнет. Объективные социальные условия требуют, чтобы мы сказали что-то значительное, разумное и непротиворечивое или уж замолчали вовсе (в случае отсутствия доверия или, что ещё хуже, в случае ухудшения объективных социальных условий). Новые социальные условия и наша устойчивая неспособность справиться с ними — вот чем объясняется необходимость революции в географической мысли».
Фрустрированность и злободневность этих слов становятся понятнее, если учесть, что всего четырьмя годами ранее Харви опубликовал получивший известность пространный научно-методологический текст «Объяснение в географии» (1969). В «Социальной справедливости и городе» Харви из голубоглазого мальчика позитивизма превратился в плохого парня марксизма. Эта книга стала важной поворотной точкой общественной географии в то время, когда Харви чувствовал, что «количественная революция исчерпала себя, и её продуктивность очевидно уменьшается: ещё одна работа по факторной экологии, ещё одна попытка измерить эффект ослабления связей при увеличении расстояния (distance-decay effect), ещё один замер радиуса реализации услуг и товаров говорят нам всё меньше и меньше чего-то
В общем, Харви отверг позитивизм. Он отправился в путь, который пролегал через «либеральные формулировки» (опираясь на статью Джона Роулза «Теория справедливости» (1971)), исследовал вопросы социальной справедливости и распределения национального дохода в городах и был пронизан вопросами морали, к «социалистическим формулировкам», вдохновленным марксистскими аналитиками, потому что он не мог «найти другого пути сделать то, что намеревался сделать или понять то, что было необходимо понять». Харви написал «Социальную справедливость и город» в то время, когда общественная география переживала кризис значимости, вынудивший многих географов поставить под сомнение ценность пространственных наук и позитивизма, особенно в свете более широких общественных проблем. Харви подтолкнул многих к созданию критических, радикальных общественных географий, опирающихся на марксизм и анархизм и призванных расширить понимание связей между социальным неравенством и пространственными структурами. (Были, разумеется, и другие ответы на кризис значимости в общественной географии. Они видели выход в географиях гуманизма и социального обеспечения).
Я перечитала «Социальную справедливость и город» в двадцатую годовщину её публикации. Впервые я познакомилась с этой книгой, будучи студенткой курса истории и философии географии, поэтому новая встреча с ней напомнила мне о моей собственной интеллектуальной истории. Эта книга среди прочих вдохновила меня на аспирантские исследования, акцентированные на критических теориях и социальных проблемах. Я приехала в Соединенные Штаты, чтобы работать с Кевином Коксом, и узнала многое о марксизме, марксистской географии и работах Дэвида Харви. Однако всё сильнее меня привлекали феминистские исследования. Я читала феминистскую критику классической марксистской теории, исследующую «Несчастливый брак марксизма и феминизма» путем анализа связи между патриархатом и капитализмом (Хартманн, 1979). Классический марксизм научил меня, что капитализм был первым способом производства, безразличным к социальной идентичности людей эксплуатируемого класса (делая всех рабочих «равными» на рабочем месте), что капитализм может быть истолкован как производство «пустых пространств», не учитывающих пола, расы, этничности и т.д. От феминисток я узнала, что чистый капитализм, безразличный к особенностям людей, вовлечённых в рынок труда, безжалостно извлекающий прибавочную стоимость в непрерывном цикле накопления, никогда не существовал. Капитализм, поняла я, не равнодушен к особенностям социальной идентичности тех, кто предоставляет рабочую силу. Я также поняла, что марксисты мало что могут сказать о проблемных ситуациях, происходящих не на рабочем месте. Так, марксистская теория не учитывала значение неоплачиваемого домашнего труда, особенно в дискуссиях о потребительской и меновой стоимостях и связях между репродукцией, потреблением и производством.
Любой текст, конечно же, является продуктом времени, в которое он написан. Знание социально сконструировано и отражает более широкие социальные условия и властные отношения, в которых оно было создано. Харви признавал это. Например, он отметил, что учёные «не живут в отрыве от социальных обстоятельств, и поэтому закономерно, что наука будет отражать общественные ценности, мировоззрение и давление времени». Сейчас понятно, что до появления феминистской географии общественные географы исключали «из общественной географии половину общества» (Хансон и Монк, 1982). С учётом этого, читая «Социальную справедливость и город» в 1993, я ожидала, что этой книге также будет свойственна гендерная слепота, типичная для многих марксистских (и географических) текстов конца 1960 — начала 70-х. Тем не менее я обнаружила, что женщины не вполне невидимы в книге; они блуждают по ней в качестве, например, текучего и скрытого элемента резервной армии труда, чтобы «предоставить рабочую силу, когда это будет необходимо»; или «женщины-главы домохозяйства… (представляющие) застойную группу в резервной армии промышленного труда, чье выживание обычно зависит от социального обеспечения и поэтому… рассматриваемые как инструмент для манипуляции платежеспособным спросом через государственную политику».
Вопросы Харви о социальной справедливости в основном ограничены классовым анализом, что было типично для марксистских текстов того времени. Разумеется, социальная несправедливость не сводится только к классовому неравенству, а социальные отношения не ограничены классовыми отношениями. Тем не менее Харви обратил внимание на пересечения класса и «расы» в своём пророческом анализе формирования гетто и проблемы того, что мы сейчас называем «территориальным неравенством». Именно в своём анализе формирования гетто Харви бросил вызов общественным географам, призывая их взглянуть на процессы, а не только на результаты в вопросе социальных проблем. Он утверждал, что государственная политика, созданная специально, чтобы «устранить условия… механизмы… предположительно устранит результат».
Перечитывая описания формирования гетто, я с интересом обнаружила ссылку на отчёт комиссии Кернер (созданной Линдоном Джонсоном, чтобы расследовать «расовое» неравенство после беспорядков в Уоттсе 1965 года) 1968 года. Только что было выпущено обновление отчёта (Hacker, 1992), (непреднамеренно?) совпав по времени со вторым слушанием дела Родни Кинга. Результаты 25-летней давности заключали, что США «движутся к формированию двух социумов : чёрного и белого — сепарированных и неравных». Эти выводы отозвались в новом докладе, предупреждавшем, что в американских городах, по-видимому происходит ресегрегация. Разумеется, расовое неравенство всё ещё характерно для американского общества, где, например, уровень безработицы среди афроамериканцев в два раза выше, чем среди белых, а доход афроамериканской семьи составляет 60% процентов от дохода белой.
Одним из самых важных моментов, акцентированных Харви в «Социальной справедливости и городе» была продуманная теоретизация связей между социальными отношениями, социальной несправедливостью и пространственными структурами, имевшая целью достижение социальных изменений (в особенности, в главе 4, «Революционная и контрреволюционная теория в географии и проблема формирования гетто»). Харви одобрял движение к социальным изменениям через «революционную теорию», которая прямо связывает теорию с практикой и «…не предполагает ещё одно эмпирическое исследование условий жизни в гетто. По большому счёту, картографирование ещё большего числа свидетельств обыденного нечеловеческого отношения человека к человеку в определённом смысле контрреволюционно, поскольку позволяет нашему добросердечному внутреннему либералу делать вид, что мы пытаемся решить проблему, хотя на самом деле не решаем её. Есть уже достаточно информации… чтобы предоставить нам все необходимые свидетельства. Кроме того, истинная революция в географической мысли обязательно должна быть подкреплена революционной практикой. <…> Безусловно, общее признание революционной теории будет зависеть от успешности и убедительности революционной практики. Придётся принимать много непростых решений — решений, которые потребуют «настоящей», в отличие от «просто либеральной», готовности. Многие из нас, несомненно отступят, поскольку быть просто либералом гораздо комфортнее».
Отчасти посыл Харви был в том, что общественная география не должна ограничиваться академией. Он призывал географов к политической осведомленности и активному участию в создании справедливого общества:
«Революции мысли, таким образом, востребованны, даже если в социальной практике не происходит реальных революций. Я не хочу тут преуменьшить усилия вовлечённых в такие процессы или значимость русских революций в дисциплинарных областях. Но если такие революции должны стать чем-то большим, чем просто средствами адаптации, с помощью которых властные группы в обществе могут сохранить свой контроль, они должны восприниматься как начало борьбы за зарождение более совершенной революционной теории, которая могла бы быть подтверждена революционной практикой <…> Непосредственное восприятие нашей ситуации приведёт нас к активному участию в социальном процессе. Интеллектуальная задача состоит в том, чтобы идентифицировать реальные альтернативы развития, заложенные в текущей ситуации, и разработать способы проверки этих альтернатив в действии. Эта интеллектуальная задача не является задачей отдельной группы людей, называющих себя «интеллектуалами», а адресована всем, кто способен мыслить и размышлять о своей ситуации. Социальное движение становится академическим движением, а академическое движение становится социальным, когда все группы населения осознают потребность согласованного анализа и действия».
Уже будучи феминисткой, я заметила за собой, что обратилась к этим текстам, в то же время, что и к ключевому утверждению Маркса: нужно не только объяснять мир, но и изменять его. Для меня, феминизм — это (революционная) теория и (революционная) практика, а их объединение, феминистский праксис, открывает метод социальных изменений. Адекватные решения проблемы гендерно-обусловленной несправедливости не могут быть предвосхищены «интеллектуалами» как частью «академического движения». В то же время политический активизм как часть «общественного движения» должен опираться на феминистскую теорию. Другими словами, феминизм является не просто теорией, но основывается на прогрессивной, эмансипаторной политике.
Женщины переопределяют политическое
Хотя женщины практически невидимы в «Социальной справедливости и городе» и, шире, общественной географии ранних 1970х вообще, такая ситуация становилась всё более неактуальной для других аспектов североамериканского общества. Феминизм второй волны превращался в значимое общественное и академическое движение с огромной политической силой; феминистки боролись за уточнение понятий «политического», «публичного» и «частного». За последние 20 лет женщины стали эффективными агентами политики, обладающими преобразующим потенциалом, добивающимися изменений в государственной политике. Женщины подняли вопросы, раньше считавшиеся «частными», и внесли их в государственную повестку. Некоторые социальные проблемы были переопределены как проблемы общества, требующие изменений в государственной политике, а не приватные личные проблемы, требующие индивидуальных решений.
До 1960-х гендерная идеология, поддерживаемая официальной политикой, заключалась в том, что мужчины являлись добытчиками в «публичной» сфере, а женщины были женами и матерями (или потенциальными женами и матерями) в «частной» сфере. Преобладающие убеждения были чем-то вроде теории просачивания благ сверху вниз, применяемой дома: если государство помогает мужчинам, они могут распространить полученные блага на своих близких женщин. По сути, женщины не рассматривались как автономные субъекты, они позиционировались как помощницы мужчин, зависимые от них экономически. Резюмируя, женщины и «частная» сфера, с которой они постоянно соотносились, обесценивались и оказывались политически невидимы.
В ранних 1970-х феминистки внутри и вне академии начали ставить в центр внимания неравенство женщин, выделяя политически компоненты «частного». Феминистские ученые проблематизировали натурализованную, воспринимаемую как должное оппозицию между «публичной» и «частной» сферами, выявив их взаимозависимость и культурную сконструированность. В то же время современное женское движение набирало силу под сплочающим призывом «личное это политическое», подразумевающим, что формат личной жизни женщины не обязательно является результатом свободного выбора и что личный опыт является эффективной основой для политической борьбы. Женские требования и борьба, а также конфронтации с государством переопределили понятие «политического». Раньше многие вопросы, влиявшие на повседневность женщин (например, аборт, уход за детьми и домашнее насилие), определялись как часть «частной» сферы и, следовательно, не были уместны и необходимы для включения в политическую повестку. Феминистские активистки начали давление на всех уровнях государства для решения вопросов, связанных с гендерной несправедливостью и неравенством, и реагировали на изменения социальных ценностей относительно «подходящих» ролей для женщин. Государство ответило на это созданием Королевских исследовательских комиссий и консультационных советов и специальных ведомств, изучающих статус женщин; женские проблемы начали обсуждаться. Законы и государственные стратегии начали меняться, а мужское насилие над женщинами, равная оплата труда, право на аборт, политика заботы о детях и семейное право стали темами публичных дебатов и предвыборных обещаний.
Женщины создают более социально справедливые города
Есть множество объяснений как сроков возрождения феминизма как общественного движения, так и его развития в академической среде. Тем не менее существует, кажется, консенсус, что ключевым моментом стало движение против изнасилований (наряду с борьбой за репродуктивные права). Действительно, как отмечают Констанс Бакхаус и Дэвид Флаэрти (1992), многие утверждают, что именно появление публичных кризисных центров для помощи изнасилованным и шелтеров для помощи избитым женщинам, восходящих к первым группам роста самосознания в США и Канаде, возвестили о наступлении новой эпохи в феминистском движении. Насилие над женщинами вскоре заняло особое место в феминистском анализе издержек, которые несут женщины в патриархальной системе. В стратегиях преобразований огромные усилия посвящены переопределению проблемы с перспективы женщин и разработке программ действий для реформ.
Предотвращение насилия над женщинами сейчас относится к передовой городской публичной политике, но всего 20 лет назад, когда была написана «Социальная справедливость и город», насилие мужчин над женщинами было табуированной темой для обсуждения. Этот сдвиг может быть непосредственно связан с политическим активизмом феминисток, которые, как выразились Бакхаус и Флаэрти, «пересмотрели проблему с точки зрения женщин и разработали программы реформирования». Таким образом, движение против изнасилований и другие политические протесты против насилия над женщинами являются примером феминистского праксиса. Действительно, эта борьба и успешные трансформации публичной политики представляют собой конкретную иллюстрацию к утверждению Харви, что «революционная теория будет зависеть от преимуществ и достижений революционной практики». В 1970-х в городах Северной Америки низовые женские группы, боровшиеся с изнасилованиями, начали мобилизоваться, чтобы предлагать свои услуги жертвам мужского насилия, просвещать общественность, разрабатывать стратегии сопротивления и агитировать за справедливость в правовой системе. С середины 70-х во многих городах ежегодно проводился марш «Вернём себе ночь», направленный на то, чтобы поддержать жертв мужского насилия и символически вернуть ночь женщинам, которые обычно боятся ходить в одиночку после наступления темноты. Во многих городах открылись кризисные центры для помощи жертвам изнасилований и шелтеры (Community Action Strategies to Stop Rape, 1981; Boston Women`s Health Book Collective, 1984; Laws, 1994).
Феминистсткие исследовательницы зафиксировали, что городские женщины ограничивают свою активность в публичных пространствах
Юридический и общественный анализ был перестроен феминистским анализом. Терминология, базовые значения и понятия были преобразованы, так что, например, то, что раньше было «семейной ссорой» стало «избиением жены» и теперь расширилось до «нападения на женщину». Язык, конечно же, не нейтрален. «Избиение жены» не включает женщин, которые не замужем или сожительствуют со своим абьюзивным партнёром. Это также предполагает гетеросексуальность и учитывает только физическое насилие, но не психологическое или эмоциональное. Даже значения, которые городские чиновники и планировщики вкладывают в слово «безопасность», изменились. Раньше они вращались вокруг вопросов ограблений, полицейской деятельности, правил пожаротушения и дорожного движения. Эти традиционные значения были распространены на личную безопасность, особенно на безопасность женщин в «общественных» пространствах, основываясь на убеждениях, что города более безопасные для женщин становятся безопаснее для всех.
Метрополия Торонто (перестала существовать в 1998) имеет репутацию «безопасного» города, как в традиционном, так и в расширенном значении слова. Муниципалитет Метрополии Торонто был одним из первых, кто официально принял политику в отношении безопасности женщин в городских зонах, в то время как муниципалитет города Торонто был первым в Северной Америке, создавшим комитет (Комитет городской безопасности) для решения конкретно этой проблемы. Герда Векерле (1985, 1994, личное общение) считает, что данный аспект политики Торонто является прямым следствием женских инициатив в местном правительстве. Она утверждает, что феминистское переосмысление мужского насилия над женщинами просочилось в правительства Метрополии и Города Торонто. Женская безопасность теперь считается общественной проблемой, которую местное правительство может и должно решать. Развивая этот аргумент, Векерле опиралась на собственный богатый опыт активизма в движении за городскую безопасность в Торонто. Например, в последнее десятилетие она активно участвовала в создании ряда политических документов, направленных на то, чтобы сделать Торонто безопаснее для женщин. Многие из этих документов содержат длинные списки рекомендаций касательно городского проектирования, планирования и государственной политики. Она опирается на этот политический активизм, чтобы разработать теоретическую схему, которая выявляет связи между феминистской теорией и активизмом, а также политикой Торонто и государственной политикой.
В 1984 Метрополия создала и профинансировала правозащитное агентство METRAC (Метропольский комитет по борьбе с насилием в отношении женщин и детей). METRAC было создано после публикации окончательного отчета, инициированного Метрополией «Целевая группа по вопросам публичного насилия в отношении женщин и детей» (Муниципалитет Метрополии Торонто, 1984). Эта целевая группа состояла из 80 добровольцев, включая представителей городской власти, академиков (в их числе Векерле), врачей, юристов и сотрудников кризисных центров по изнасилованиям. Задача METRAC в том, чтобы продвигать рекомендации целевой группы касательно уголовного правосудия, вспомогательного обслуживания, полицейской деятельности, городского планирования и государственного образования.
METRAC также работает на ускорение процесса устранения публичного насилия над женщинами путём осуществления совместных проектов со всеми уровнями правительства и другими организациями, включая общественные группы, полицию Метрополии и Комиссию транспорта Торонто (T.T.C.). METRAC перенял феминистский метод совместного исследования, который признаёт женщин как эксперток своего опыта и пытается дать женщинам возможность выносить собственные суждения. Это особенно касается городского планирования и проектирования, а в отчётах METRAC содержится конкретная информация о том, какие общественные места и аспекты городской планировки заставляют женщин чувствовать себя наиболее небезопасно, особенно после наступления темноты (к ним относятся подземные парковки и общественный транспорт). Они сформулировали рекомендации, сфокусированные на благоприятном для женщин городском планировании и проектировании, расширении вовлечённости общества и совершенствовании работы полиции.
Информация, собранная METRAC, побудила ряд депутатов города Торонто в сотрудничестве с общинными женскими группами и феминистскими учёными выпустить «Безопасный город: муниципальные стратегии по предотвращению публичного насилия в отношении женщин» (Город Торонто, 1988). В этом докладе предлагаются конкретные действия, которые может предпринять город, чтобы не только предотвратить нынешние акты насилия, но также разобраться с долгосрочными причинами насилия в отношении женщин. Доклад был единогласно принят Городским советом и привёл к созданию Комитета городской безопасности, который отчитывается перед Городским советом через департамент планирования и развития. Задача Комитета городской безопасности заключается в отслеживании выполнения рекомендаций «Отчёта о городской безопасности» и развитии дальнейшей политики, направленной на предотвращение мужского насилия над женщинами.
Создание METRAC и Комитета городской безопасности является результатом длительной активности феминисток, которые больше 10 лет оказывали давление на правительство Метрополии и города Торонто, требуя признать и решить проблему публичного насилия над женщинами. Как объяснила Герда Векерле, политический дискурс Торонто изменился именно потому, что публичное насилие в отношении женщин было переопределено как проблема сообщества, требующая изменения в планировании и государственной политике. Настаивая на рекомендациях и публичной политике, освещающей условия и механизмы, которые приводят к насилию, METRAC и Комитет городской безопасности разрешили дилемму Харви о простом «картографировании всё большего числа свидетельств открытой негуманности человека к человеку». Их праксис и вытекающая из него государственная политика служат примером к утверждению Харви об анализе социальных проблем.
Коллективные усилия движения за безопасный город в Торонто служат олицетворением того, как политический активизм женщин в последние 20 лет переопределил «политическое», поставив под вопрос границы между частным и публичным, теорией и практикой в борьбе за создание более социально справедливых, благоприятных для женщин городов. Как академик, активно участвовавший в изменении государственной политики относительно насилия над женщинами, Герда Веркеле выбрала для себя путь, одобряемый Харви, открыто связав теорию с политической практикой. Более того, её активизм и научная деятельность также служат иллюстрацией к замечанию Харви о месте ученых в достижении социальных изменений, поскольку она «стала активным участником социального процесса… и согласовывает анализ с действиями» в своих усилиях по объединению общественного и академического движения.
Будущее: вперед к созданию социально инклюзивной справедливости и города?
Многие воспринимают «Социальную справедливость и город» как автобиографию, описывающую переход Харви от либеральной перспективы к марксистской. Действительно, в своём введении Харви говорит, что «главы, представленные в этой книге, были написаны в разные периоды <…> продвижения по этой эволюционной дороге и поэтому представляют собой историю формирования точки зрения». На протяжении своей карьеры Харви, похоже, имел набор центральных тем для исследования, к которым возвращался снова и снова, и он явно не боится пересмотреть или даже изменить свои прежние позиции. Например, в своём ответе на комментарии к «Социальной справедливости и городу» в серии «Пересмотр классики общественной географии» «Прогресса в области общественной географии, Харви писал:
«Темы теории, пространства, общества, справедливости (в самом широком смысле) и урбанизма… по-прежнему вдохновляют меня. И в то же время, я получил много пищи для размышлений из того, как другие восприняли их, как критически, так и творчески, в годы, последовавшие за публикацией «Социальной справедливости и города», используя этот текст как своего рода базовый лагерь, из которого можно исследовать мир. Однако были и разочарования. Оказалось намного легче ввести марксизм в географическую работу, чем вернуть понимание географии в русло марксистского мышления, не говоря уже о революционной практике… Сейчас мы, похоже, находимся в аналогичной ситуации сильного политического и интеллектуального смятения. Однако этому можно найти решение, я надеюсь, что стремление мобилизовать географические знания и исследования для создания лучшего мира, более разумного общества, более гуманной географии, может остаться в центральной позиции, как это было, когда была написана «Социальная справедливость и город»
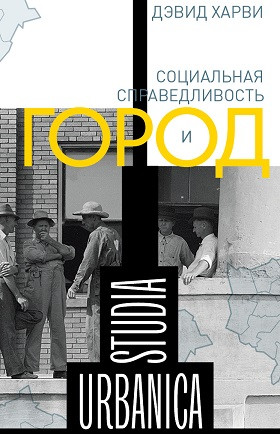
В комментариях Харви содержится намёк на, перефразируя Фрэнсиса Маскиа-Лиса, П.Шарпа и К. Баллерино Коэна, ранние 90-е, момент глубокой рефлексии в общественной географии. География «находится в аналогичной ситуации сильного политического и интеллектуального смятения», потому что, кроме столкновения с очередным кризисом актуальности, географы также борются с кризисом репрезентации. Хотя феминистские теории были в числе первых фундаментальных предпосылок текущих кризисов, ранние 90-е были моментом глубокой рефлексии и для феминисток. В прошлом женское движение утверждало главенство личного опыта как средства политической активности, иллюстрируя это максимой «личное это политическое». А феминистские исследования в академических кругах пользовались импульсом, происходящим из теоретического предположения о существовании универсального общеженского опыта угнетения. Обе эти позиции оказались под атакой. В начале 1980-х некоторые women of color и лесбиянки открыто критиковали и отвергали феминизм, утверждая, что это движение для белых гетеросексуальных женщин среднего класса. Пратибха Пармар отметила, что «говорить о женщинах, обо всех женщинах категориально означает увековечивать белое превосходство — белое женское превосходство». В то же время Хазел Карби поставила вопрос: «мы должны спросить у белых женщин: “Что именно вы имеете в виду, когда говорите “МЫ”?»”. А Шарлотта Банч «покинула женское движение, поскольку [ей] стало очевидно, что там нет пространства для развития лесбийских феминистских политик и образа жизни без постоянного и непродуктивного конфликта с гетеросексуальным страхом, неприятием и бесчувственностью».
Эти критики также применимы к большей части дискуссий о мужском насилии над женщинами, которое часто позиционируется как универсальная истина с универсальной применимостью. Однако афро-американки становятся жертвами сексуального насилия чаще, чем белые женщины, а лесбиянки испытывают невероятно высокий уровень публичного харассмента и нападений. (Примечательно, что цветные лесбиянки, по-видимому, чаще подвергаются харрасменту и насилию, чем белые лесбиянки). При этом, women of color и лесбиянки реже сообщают о преступлениях, их дела реже доходят до суда, а суды реже выносят обвинительные приговоры. Вдобавок к этому, в то время как лесбиянки получили репрезентацию в движениях за бесопасность и против изнасилований, WoC не получили и этого. Действительно, многие афроамериканские активистки выражали дискомфорт по поводу символизма белых (в основном) женщин, «возвращающих себе ночь» с помощью маршей по неблагополучным районам города, часто населенных по большей частью афроамериканцами. Конкретно такой ответ на мужское насилие подчеркивает в какой степени изнасилование, например, стало вопросом расы. Большинство изнасилований являются внутрирасовыми, но миф о чёрном насильнике (белой женщины) по-прежнему жив. Этот миф подпитывался изображением афроамериканских мужчин как сексуально ненасытных животных, жаждущих белых женщин. (В прошлом подобные мифы использовались, чтобы оправдать линчевание).
Феминистские учёные, в том числе феминистские географы, пытаются справиться с кризисом репрезентации путём пересборки теорий гендерной идентичности. Суть этой пересборки заключается в деконструкции монолитной категории «женщина» и признании того, что не существует универсального женского угнетения. Как замечает Патриция Хилл Коллинс (1990):
«Точно также, как белые феминистски отождествляются со своей виктимизацией как женщины, игнорируя привилегии, полученные благодаря расизму, а черные мужчины осуждают расизм, но воспринимают сексизм как менее неприемлимый, афроамериканские женщины могут быть угнетены по признаку расы и гендера, но виктимизировать кого-то ещё, получая преимущество от гетеросексуальной привилегии… В системе, где тесно переплетены расовое, гендерное, классовое и сексуальное угнетение существует лишь небольшое количество угнетателей и жертв в чистом виде».
Разумеется, феминистский анализ насилия над женщинами часто находится на границе дискурса тотальности, основанном на допущении существования «женщины» как неподвижной категории. Правда в том, что все женщины подвергаются угнетению, связанному со страхом сексуального насилия, и очень немногие женщины могут прожить жизнь, не столкнувшись с гендерным угнетением. Однако, фокусировка на общих аспектах, существующих вокруг гендера, предполагает, что «женщина» является универсальной категорией, стоящей над всеми другими различиями. Она также игнорирует опыт множества женщин, поскольку абьюз по-разному воспринимается женщинами в разных положениях. Критики универсальных истин и тотальных дискурсов убедили феминисток начать неуверенное исследование множественности — в том числе разнообразия и различий — женского опыта. Например, за последние несколько лет в Торонто открылись шелтеры, удовлетворяющие потребности местных женщин и отдельных групп иммигранток, а некоторые курсы самообороны были переработаны для лесбиянок и женщин с инвалидностью. Понимание различий и разнообразия сущностно необходимо для создания преобразующих, эмансипирующих политик и практик. Путь вперед, кажется, ведёт к популярным теориям и практикам, которые видят гендер, класс, расу/этничность и сексуальность не как дополнения, которые могут быть анализированы по-отдельности, но скорее их комбинацию таким образом, что опыт одного трансформируется под воздействием опыта других. Другими словами, гендер следует теоретизировать как взаимно сконструированный наряду с другими социальными идентичностями и — добавили бы феминистские географы — пространственно обусловленный, поскольку социальные идентичности конструируются в рамках разнообразных пространств.
Инклюзивный аргумент Хилл Коллинс о том, что существуют пересекающиеся дискриминации, требует от нас создания версии социальной справедливости, чувствительной к разнообразию и различиям. Понимание разнообразия женского (и мужского) опыта угнетения должно стать неотъемлемой частью этого проекта. Работы Айрис Янг о правосудии, политики и различиях даёт несколько важных ориентиров для создания новой модели социальной справедливости. Её интерпретация основана на концепции взаимосвязанных систем угнетения (и господства) и уводит фокус с вопросов распределения [благ], типичных для большинства концепций социальной справедливости. Янг утверждает, что до тех пор, пока существуют привилегированные и угнетённые социальные группы, должны существовать механизмы репрезентации голосов тех, кто уязвим политически. Она разрабатывает «благоприятную концепцию справедливости», основанную на групповых различиях, утверждая, что не все угнетённые группы подвержены одному и тому же типу угнетения. Она указывает на то, что «групповые различия влияют на отдельные жизни множеством способов, которые могут повлечь за собой привилегию и угнетение для одного и того же человека в разных ситуациях»; действительно, групповые различия являются «многообразными, сквозными, флюидными и смещающимися… (и) все люди имеют несколько групповых идентификаций». Янг подробно развивает этот аргумент в дискуссии о «пяти лицах угнетения» (эксплуатация, маргинализация, бесправие, культурный империализм и насилие), используемых в качестве критериев для выяснения, является ли группа угнетаемой и если да, каков характер этого угнетения. (См. Лоус, 1994, для объяснения анализа Янг в контексте городского ландшафта).
В своём недавнем переиздании «Социальной справедливости и города» (1992) Харви начал принимать вызовы феминизма, и работа Янг была важной частью этого процесса. Харви исследует каждое из лиц угнетения (добавляя шестое, касающееся экологических последствий), комментируя их последствия для планирования и политической практики при рассмотрения вопроса «борьбы за создание ландшафтов и городов, пригодных для жизни и работы в XXI веке». Перестраивая концептуализации социальной справедливости, Харви делает шаги к тому, чтобы «мобилизовать географические знания и исследования для создания лучшего мира, более разумного общества, более гуманной географии», оставаясь приверженным своей прежней позиции (изложенной в «Социальной справедливости и городе»), согласно которой текущей задачей является не что иное, как осознанное и ответственное конструирование новой парадигмы для социальной географической мысли посредством глубокой и вдумчивой критики уже существующих аналитических конструкций. Мы, в конце концов, учёные, орудующие инструментами академического ремесла. Таким образом, мы обязаны мобилизовать силу нашего мышления на формулирование понятий и категорий, теорий и аргументов, которые мы сможем применить в создании гуманных социальных изменений. Эти понятия и категории не могут быть сформулированы абстрактно. Они должны применяться в реальности к событиям и действиям, которые происходят вокруг нас. Эмпирические данные, уже собранные документы и опыт, накопленный в сообществе, могут и должны использоваться здесь. Но весь этот опыт и вся эта информация будут незначительны, если мы не синтезируем их в могущественные модели мышления.
Перевод Анастасии Инопиной
Оригинал публикации можно найти здесь
