Интервью с Ольгой Владимировной Поповой о теле как территории технологий
А.К.: Ольга Владимировна, прежде всего хочу поздравить Вас с присуждением Премии Правительства Москвы молодым ученым за 2020 год за цикл научных публикаций в области социогуманитарного сопровождения развития современной технонауки и исследования биоэтических проблем, связанных с использованием достижений науки и технологий.

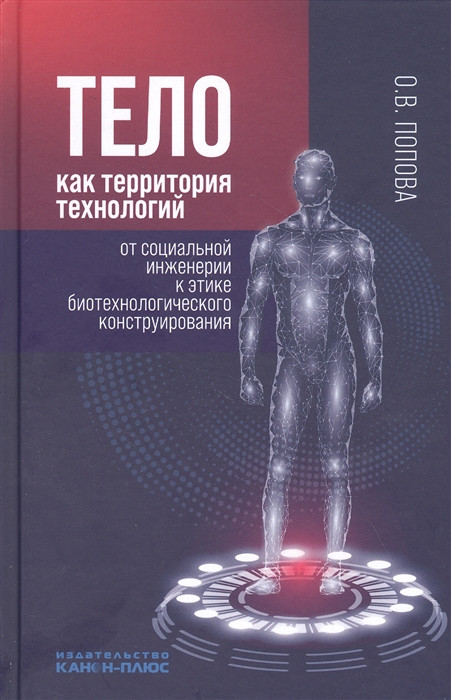
Монография «Тело как территория технологий от социальной инженерии к этике биотехнологического конструирования» стала одной из работ данного цикла?
О.П.: Монография не входит в данный цикл публикаций, она вышла немного позднее, но отражает основные результаты проведенных ранее исследований. Я рассматривала конструирование человека как сложный феномен, организация которого определена антиномически позиционированными факторами (дилеммами). Современная биомедицинская наука создает ситуации, в которых человек конструируется как объект воздействия биотехнологий в биологическом смысле, как субъект биотехнологий в биополитическом и биоэтическом смысле и как судья, оценивающий блага и риски инновационных биотехнологических проектов. Человек оказывается биотехнологическим артефактом, границы которого постоянно проблематизируются в зонах между жизнью и смертью (реанимационные и трансплантационные технологии), между дочеловеческим и человеческим существованием (репродуктивные технологии), человеком и машиной, человеком и животным. Эти пограничные состояния Борис Григорьевич Юдин назвал зонами фазовых переходов, отметив непредсказуемость и нелинейность процессов в них происходящих. Мне было важно предложить вариант нередукционистской, этически обоснованной герменевтики человеческого существования, которую я условно назвала «этикой чистого листа».
А.К.: В первых главах своей книги Вы обращаетесь к исторической ретроспективе.
Как, на ваш взгляд, менялось отношение людей к телу?
Можно ли проследить какие-либо закономерности?
К какому пониманию «тела» мы приходим сегодня?
О.П.: Осмысление феномена телесности в качестве предмета философской рефлексии происходило поэтапно. Образ тела, присущий той или иной эпохе, отражал лицо культуры. Со временем он обрастал важными смысловыми деталями, которые являлись источниками новых практик обращения с человеческим телом. Этот процесс не был монотонным. В его основании мы видим спор исключающих друг друга идеологических установок.

Основанной на религиозных ценностях философии Средневековья был противопоставлен пантеизм и антропологический поворот Возрождения, с его восприятием человека как
Биотехнологии порождают новые оптики визуализации телесности, производят новую семантику и новую этику тела. Более того, они замещают социокультурные практики «заботы о теле» и дисциплинирования тела, о которых подробно писал М. Фуко, новыми формами, которые требуют осмысления и составляют суть современной «проблемы тела» как конструктора и ремонтопригодной машины. Можно предположить, что тело никогда не будет обладать фиксированным значением, это полисемичный постоянно трансформирующийся знак, подверженный влиянию динамично развивающейся технологической среды, стихии спроса общества потребления. Философия вынуждена отвечать на вызовы инновационных технологических переформатирований телесности не столько потому, что такого рода проекты возникли в результате мысленного эксперимента у определенного теоретика, предложившего новый образ тела и новый результат редуцирования и абстрагирования от живого, сколько потому, что современные биотехнологии порождают множественность новых конфигураций тел.
Мы встречаем тела с пересаженными органами, с отредактированными геномами, с вмонтированными имплантами, микрочипами в мозгах, протезами конечностей, которые действуют лучше настоящих и т.д. Все они — результаты не только мысленных, но и научных экспериментов, которые со временем могут перейти в рутинную биомедицинскую практику. Вспомним, например, стремительное развитие органного донорства и трансплантации органов. Пересадка сердца человеку, выполненная в 1967 г. Кристианом Бернардом свидетельствовала о начале экспериментальной фазы современной трансплантологии на человеке (вспомним, что этому предшествовали экспериментальные пересадки органов у животных, выполняемые учителем К. Бернарда — В.П. Демихова). Это стадия очень быстро перешла в клиническую фазу, ставшую неотъемлемой частью не только медицины, но и особым феноменом современной цивилизации. Идея телесного дара (донорства) становится конституирующей для общественного сознания многих стран мира, порождая в области биомедицины особую экономику дарения.
А.К.: Несмотря на антропоцентричность современной культуры, действительно, остались явления, не вписывающиеся в такую «гуманную» парадигму. Например, дедовщина в армии, о которой Вы пишете.
Почему подобное до сих пор имеет место быть?
Какие явления «гражданской» жизни могли бы встать в один ряд с дедовщиной?
Возможно ли их упразднение и если да, то при каких обстоятельствах?
О.П.: Полагаю, что антропоцентричность воспроизводит не только «гуманные посылы». В каждом человеке действует не только сознание с его нормативными представлениями о себе (его нормативной гуманностью), но и бессознательное, в которое вытеснены жизненные импульсы, не отвечающие нормативным стандартам. По З. Фрейду, сознание таким образом защищает себя от таящегося в глубине человеческого существа ненормативного конгломерата агрессивных влечений. Но нормативность постоянно меняется, и она различается в различных сообществах одного и того же общества. Вы упомянули дедовщину. Это жестокая практика, которую зачастую рассматривают как пример лиминального перехода из одного антропологического состояния в другое. Это технология переформатирования человека из штатского в солдата, которой не одна сотня лет. На протяжении веков такого рода жестокие дисциплинарные практики, зачастую даже не идентифицировались в общественном сознании как проявления насилия.
Аналогичные с армейскими практики насилия как технологии лиминальных переходов столетиями работали над формированием человеческих субъектов в европейских университетах.
Идеал гуманности нередко прячет человека от самого себя.
Этос человеческой жизни пронизан пафосом борьбы за признание. Чтобы быть признанным, субъекту предлагают пройти инициацию разными формами принуждения. Дедовщина, равно как и другие унижающие человеческое достоинство практики локальной микровласти в закрытых или полузакрытых коллективах, в школах, офисах, медицинских учреждениях, академической среде (хэйзинг, буллинг, моббинг, академический газлайтинг) свидетельствуют о кризисе регуляции отношений между людьми и кризисе идентичности морального субъекта, запутавшегося в отголосках норм уходящих традиций, с характерными для них ритуалами инициации, а с другой, потакающего воспроизводимости насилия посредством оправдания его какими-то высшими целями. Насилие превращают в рутинный механизм воспроизводства социальных отношений в отдельных сегментах жизни.
Здесь, на мой взгляд, мы имеем дело с приближением к досубъектному типу отношений, предполагающим взаимодействие не столько между сознательными личностями, сколько между бессознательными элементами человеческой массы. Антропоцентризм и персоналистическую установку нужно еще выдержать.
Приоритет коллективных целей над личностными как повседневное требование армейской жизни, в особенности, если мы говорим о дедовских практиках, или корпоративных ценностях, над индивидуальными целями, если речь идет о
Так, формирование человека военного осуществляется в определенные сроки, кратчайшим, а то и маргинальным (как в случае с дедовщиной) путем. Этот процесс зачастую оправдывается необходимостью «воспитания» солдата в жестких пространственно-временных рамках. Солдат должен беспрекословно выполнять приказ, вытеснив в себе индивидуалистические ценности.
Методы педагогического воздействия (и на
Более того, сейчас мы сталкиваемся с проблемой вытеснения более действенными и эффективными практиками (техниками, технологиями) менее эффективных и затратных по времени. Например, речь идет (пока ещё в гипотетическом ключе) о возможностях редактирования генетической структуры солдата для защиты от химических и биологических атак. Но не только об этом. Появляются проекты, связанные как с улучшением боеспособности солдата, так и с трансформацией его ментальной и эмоциональной сферы.
Немаловажную роль при этом играют исследования в области редактирования генома человека. Например, исследуются возможности редактирования генома солдат с целью уменьшения их эмпатии и предотвращения посттравматического стрессового расстройства. Сформирован запрос на создание солдата как идеальной трудоспособной единицы, работающей круглые сутки и не испытывающей усталости.
Современный мир погружается в зону противостояния антагонистичных тенденций. Одна из них направлена на биотехнологическое искоренение насилия, когда на серьезном теоретическом уровне проходит обсуждение необходимости редактирования генома человека с целью снижения его агрессии, а другая связана с воспроизводством насилия посредством создания генетически усовершенствованного индивида под конкретные цели военных заказчиков. Баланс политических сил будущего, вероятно, будет зависеть от результата противостояния моральных и
Понятно, что цивилизованное человечество должно с этим как-то бороться, и
И, конечно, здесь очень важно идентифицировать насилие, разобраться, какие практики должны оказаться под запретом. Речь идет не только о запрете дедовщины или моббинга, но и например, о моратории на редактирование зародышевой линии генома эмбрионов человека. Это пока еще нелегитимная практика, несущая высокие популяционные риски и влияющая на видовое самопонимание в целом. Кроме того, она может породить эскалацию недобровольного экспериментирования на людях и расширение масштабов биотехнологического насилия.
А.К.: Во многих главах Вы обращаетесь к провокационным историческим событиям, заставляющим любого культурного человека по меньшей мере ужаснуться. Очевидно, что понятия «люди-бревна» мы больше не встречаем, но тем не менее:
На Ваш взгляд, современный мир движется в сторону гуманизации или, наоборот, дегуманизации?
С чем это может быть связано?
О.П.: Думаю, мир движется туда, куда движется человеческая природа. Эксперименты над природой человека, возможно, зададут новый импульс движению. Индивидуальное моральное сознание балансирует между совершенством и моральным падением, но фактически то же самое происходит и в общественном сознании. Достигнутому нравственному прогрессу во многим областях человеческой жизни противостоят новые очаги произрастания насилия. Отмене рабства как конкретному историческому и социокультурному феномену сопротивляются новые формы господства и подчинения, при этом не менее ужасающие. Тенью европейского гуманизма, достигшего небывалой высоты в философии, науке и искусстве начала 20 го века оказались такие феномены, как ГУЛАГ и Аушвиц.
И сегодня мы можем свидетельствовать и о гуманизации жизни, и о ростках новых форм насилия. Развитие биомедицины, как ни странно, придает им (этим росткам) новый формат. Например, феномены репродуктивного туризма или торговли человеческими органами — это своеобразная «зияющая высота» мира биотехнологий, которая как бы свидетельствует о том, что несмотря на моральный и научный прогресс в определенных областях, человеку удается оставаться неизменным в своей способности свершения моральных катастроф.
А.К.: Вы выпустили книгу в прошлом году. Не нужно даже говорить том, какие огромные социокультурные изменения претерпело наше общество за последние месяцы.
На фоне этого хотелось бы Вам добавить какой-либо раздел непосредственно в данную монографию?
Или же события 2020 года заслуживают отдельного исследования?
О.П.: Безусловно, очень сложный 2020 г. наложил отпечаток на формирование исследовательского поля многих ученых. Пандемия и карантин стали для биоэтических исследования особой тематизируемой областью. До распространения эпидемии ковида своеобразной точкой роста биоэтического дискурса стала проблема редактирования генома и появления первых дизайнерских людей.
Пандемия задала совершенно новые акценты, заставив задуматься о проблемах, которые были раньше на периферии. Мы стали обсуждать медицину катастроф, возвращаться к прояснению ряда, казалось бы, устоявшихся понятий, которым ad hoc стали присваивать новые значения в пандемической реальности.
Во время эпидемии еще весной я начала читать материалы Нюрнбергского процесса. Осмысление изоляции в концлагерях и изоляции во время пандемии происходило параллельно. Меня волновало, кроме всего прочего, как в концентрационных лагерях осуществлялись карантинные меры.
В книге я немного коснулась этой темы, а впоследствии продолжила ее в других публикациях.
Стоит вспомнить, что защита от Чужого, от посторонних микробов — это «милитаристское» кредо микробиологии, утвержденное гением Луи. Пастером, оказалось основополагающим как для развития современной биомедицины, так и для формирования нацистской биополитики. Биологической сущности были приданы моральный и политический смыслы. Переносный смысл болезни имел прямые политические последствия. Об этом отчетливо выразилась С. Зонтаг: «Любое важное заболевание, чья причинность мутна, и для которой лечение неэффективно, имеет тенденцию быть затопленным в значении. Во-первых, предметы глубочайшего страха (коррупция, распад, загрязнение, аномия, слабость) отождествляются с болезнью. Затем, во имя болезни (то есть, используя ее в качестве метафоры), этот ужас навязывается другим вещам». Восприятие еврейского народа сквозь призму метафоры болезни вызвало легализацию их изоляции. Гетто, а впоследствии и концлагеря, были аналогами социального карантина. Уничтожению людей предшествовал процесс лингвистического конструирования, где понятие «болезни» вынималось из строго очерченных рамок употребления, чтобы стать неотъемлемой характеристикой людей, изгоняемых за пределы нацистского социума. Репрессивность карантинных мер была сопряжена не только с вынужденным порядком изоляции и редукцией свободы, но и с репрессивным использованием метафоры «болезни» и восходящей к микробной теории инфекционных заболеваний Луи Пастера.
Массовая изоляция, объявление карантина и уничтожение отдельных народов проходили под влиянием лингвистического поворота в политике. Для него было характерно использование особой нацистской риторики, с присущим ей трансгрессивным смещением значений в употреблении медицинской терминологии.
В целом, же проблема карантина в лагерях смерти, получила развитие в публикации в 5-м номере журнала «Человек» по результатам проведенного сектором гуманитарных экспертиз и биоэтики и журналом «Человек» круглого стола.
Кроме того, 6-й номер журнала «Человек» был посвящен проблематике медицины катастроф. Мы его готовили с П.Д. Тищенко. И здесь тоже вышла моя статья о пандемии и фигуре философа.
Мне бы хотелось обратить внимание на проблему, что значит изоляция для нас и чем был карантин для узников концлагерей?
Вспомним, что в работах Дж. Агамбена чрезвычайное положение — это основополагающая характеристика «лагеря», являющегося матрицей современного биополитического пространства. В определенном смысле карантин становится органичной его частью. Реанимационные отделения, лаборатории, как символы действия современной биополитики, функционируют в режиме закрытых пространств с ограниченным доступом и обеспечивающим эту изоляцию особым порядком власти.
Однако, употребляя понятие «лагерь» в переносном смысле, Дж. Агамбен упускает из виду характерные особенности карантина в концентрационных лагерях как таковых. Человечество оказалось во власти слепой стихии жизни, навязывающей аппараты принуждения более мощные, чем дисциплинарные практики биовласти и биополитики М. Фуко. Вирус, проходя закономерные, но непонятные человеку стадии инфекционного процесса, задал на каждой из них особые режимы функционирования человеческих сообществ, особым образом контролируя их.
И
Следует обозначить разницу между «лагерем» как матрицей современного биополитического пространства в агамбеновском смысле, широко распространенной во время пандемии философской метафоры, и лагерем в его прямом смысле, являющимся местом принудительного заключения и содержания людей. Если речь идет о метафоре лагеря, характеризующей общественный порядок во время пандемии, то здесь карантинные ограничения воспринимаются как нонсенс, покушение на свободу индивида. В концентрационном лагере карантин является символом свободы индивида. Карантин там — это необходимое и в то же время желанное положение, благодаря которому индивид оказывается исключен из установившегося порядка. По отношению к нему создаются другие законы обращения, противоположные законам лагеря, напоминающие о ценности человеческой жизни.
В перевернутом порядке властных отношений, где нормой является заключение и исключение, карантин зачастую оказывался одной из необходимых свобод. Карантин — это исключение из исключения. Он зачастую подразумевал помещение в условия, свидетельство о другом порядке жизни. Помещенные в карантин заключенные могли находиться за границами лагеря. Карантинные меры, кроме того, могли применяться не ко всем заключенным. В карантине в определенном смысле оказываются избранные, особенные, кому дается шанс выжить, кто по
Подводя итоги этим рассуждениям, думаю, что оценка пандемии нуждается в дополнительных гуманитарных исследованиях, позволяющих выявить и уникальность пандемии 2020 г. и ее соотнесенность с прошедшими эпидемиями, не менее катастрофичными. Кроме того, нужно вырабатывать особый язык, на котором можно писать о катастрофах. Это тоже вопрос отдельного обсуждения, который нужно поднимать. Возможно, когда-то я напишу об этом отдельную книгу, но, конечно, сама проблематика требует очень серьезной проработки и психологической подготовки. Нейтральное письмо здесь невозможно. Личный опыт проживания пандемии будет однозначно окрашивать содержание работы.
Беседу вела специалист отдела научной коммуникации и популяризации науки Института философии РАН Анастасия Конищева
