Разные ракурсы
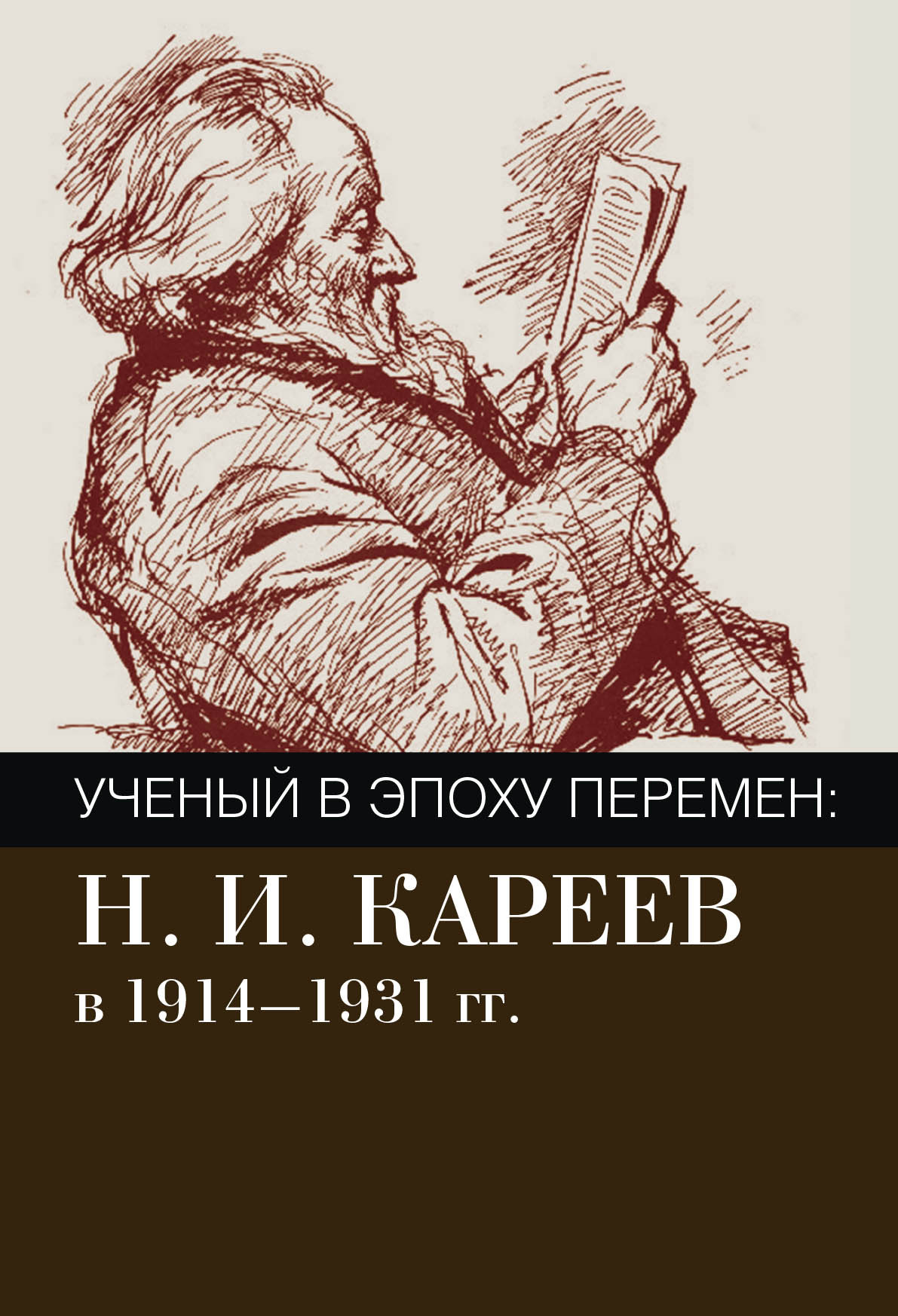
Ученый в эпоху перемен: Н.И. Кареев в 1914 — 1931 гг. Исследования и материалы / автор-составитель Е.А. Долгова. — М.: Политическая энциклопедия, 2015. — 512 с. — тираж: 1.000 экз.
История академического сообщества и его отдельных представителей — одна из наиболее приоритетных областей исторических исследований на протяжении последнего столетия. Обусловлено это положение вещей целым рядом причин:
— во-первых, изобилием материала — как известно, исследуем мы в первую очередь то, что хорошо исследуется. Университеты, научные учреждения, Академия и конкретные ученые много сделали для сохранности своих архивов, сами представители академического сообщества оставили многообразный материал — от собственно научных работ до публицистики, полемики между собой, мемуарных свидетельств, эпистолярии и дневников. Более того, каждое поколение в России по крайней мере с 1840-х гг. представляло более или менее признанные версии описания собственного прошлого и простраивало генеалогии, наследуя каждое уже существующим версиям (иногда «через голову» предшествующего поколения обращаясь к «дедам», тем самым одновременно демонстрируя преемственность и отличие от непосредственных предшественников).
— во-вторых, последовательным расширением проблематики исторических исследований — со второй половины XIX века «история культуры» серьезно теснит политическую историю, а с конца того же столетия начинают быстро развиваться исследования в области интеллектуальной истории и истории идей. Не углубляясь в последующее развитие данных исследовательских областей (и их пересечения с на долгое время занимающей господствующее положение социальной историей), отметим лишь, что все они применительно к Новому времени легко разворачиваются в пространство исследований академического сообщества или на его материалах;
— в третьих, это и вполне понятный собственный интерес исследователей — поскольку изучаемый объект оказывается одновременно и близок и дистанцирован, позволяя, в зависимости от ориентации, выстраивать и сложные рефлексивные программы (дающие простор методологической изысканности в том числе и благодаря отмеченному выше богатству и относительному многообразию материала — начиная от
Данная благоприятная ситуация сказывается, разумеется, на характере публикуемых материалов — примером чему служит рассматриваемая работа Е.А. Долговой: мало кто из политических, например, деятелей является предметом не только столь детального изучения, но и героем издаваемых сборников материалов, включающих комиссионные расчеты книжных складов, счета из типографий, записную книжку с поденными записями и т.п. То, что в большинстве случаев остается в записях и копиях исследователя, лишь ссылками отражаясь в статьях и монографиях, в данном случае представлено весьма репрезентативно — позволяя звучать не только голосу исследователя, лишь подкрепляемому отсылками к иным голосам, даваемым в цитатах, в объеме, контролируемом повествователем, а непосредственно — образуя многообразную коллекцию, лишь минимальным образом упорядоченную извне [1].

Иной важный момент, отмеченный Е.А Долговой — отход от «катастрофического» прочтения биографического материала: снижение продуктивности Н.И. Кареева, сокращение и последующее прекращение его преподавательской деятельности и т.п. оказываются «нормализованы» в том плане, что предстают не только, а в некоторых случаях и не столько результатом воздействия внешних (в первую очередь: политических) факторов, но и «естественным» завершением — в силу возраста, в силу конкуренции между теми членами академического сообщества, что обрели свой статус еще в предшествующие, дореволюционные годы.
Особенный интерес представляет опубликованные Е.А. Долговой письма Кареева к Н.П. Корелиной (вдове М.С. Корелина, специалиста по истории Ренессанса, близкого друга Кареева, с которым познакомился еще гимназистом, когда последний преподавал в
В последние годы своей жизни Кареев весьма настойчиво стремится к публикации своих мемуаров (выйдут они в свет только в 1990 г.) — в рассматриваемом издании эти попытки детально освещены: сначала в надеждах опубликоваться у Сабашникова, затем поиск возможного издателя в Ленинграде и, наконец, переговоры с В.Д.
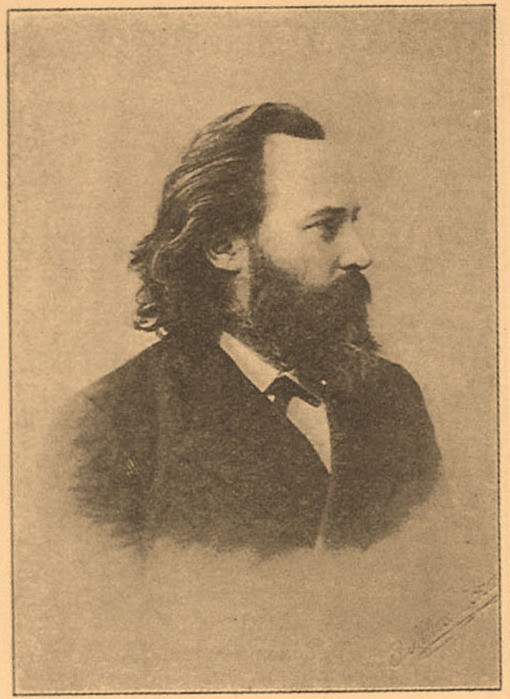
Совсем в ином отношении большой интерес представляют опубликованные материалы, посвященные борьбе Н.И. Кареева за сохранение в семье имения Аносово — в 1922 г. оно было признано интенсивным хозяйством и за братом Кареева, Василием Ивановичем и за его дочерью, Екатериной Васильевной, было сохранено 25 из 100 десятин. В 1926 г., однако, семейство из имения было выселено — и в самом имении была организована «трудовая артель» «Вольный труд». И брат, и сам Кареев обращались во все доступные им организации с просьбой сначала о предотвращении выселения, а затем о возвращении имения. Смоленский губисполком несмотря на первоначальную телеграмму ВЦИКа, подтвердил в развернутом заключении решение о выселении, с чем ВЦИК согласился — однако Карееву, задействуя Академию Наук, удалось добиться личного вмешательства Енукидзе, поставившего вопрос о возвращении имения. Примечательно, что и заступничество самого ВЦИКа не изменило ситуацию — местные власти представили «на верх» развернутые возражения: уездное земельное управление ходатайствовало перед Сычевским уездным исполкомом «о внесении на рассмотрение соответствующих органов категорического протеста против приведения в жизнь постановления Президиума ВЦИК о разгоне трудовой артели и вселении помещика КАРЕЕВА в его дореволюционное гнездо» (стр. 236), уездный и губернский исполкомы поддержали это обращение, постановив о невозможности приостановления «продажи имущества КАРЕЕВА» (стр. 237, 239), «крестьянин Рачков» (участник Гражданской войны, член артели «Вольный труд», неоднократно упоминаемый в данном контексте и бывший, надо полагать, главным действующим лицом на уровне уезда в организации выселения Кареевых) обратился в редакцию «Крестьянской газеты по радио», заявив, что «в настоящее время ВЦИК отменил постановление Губисполкова и это заставило членов артели беспокоиться об их дальнейшей судьбе» — в ответ на что редакцию адресовалась к Сычевскому уездному земельному управлению с запросом: «Редакция просит Вас сообщить, как обстоит дело с выселением быв[шего] помещика КАРЕЕВА в его бывшее имение. Предоставлен ли ему участок земли в усадьбе имения или в
Отметим, что даже для краткого перечисления тем и вопросов, поднятых в рассматриваемом исследовании и опубликованных материалах потребовалась бы куда более объемная статья, чем эта. Но то, что необходимо сказать, возвращаясь к началу — это еще один очень важный мотив подобных работ: ценность памяти самого исторического сообщества, его саморефлексии, двойного движения метода, ведущего к качественному развитию исторического познания. И опубликованная работа — важный шаг в этом движении, яркое событие в отечественной историографии, не только дающая интересные и значимые интерпретации, но и предоставляющая обильный материал для дальнейших исследований.
***
Опубликовано: Историческая экспертиза, 2015, № 1(2).
[1] Понятно, что уже сама модель отдельной книги вновь собирает эту коллекцию воедино — побуждая воспринимать как целое, встраивая эту совокупность в единство и, соответственно, придавая ему некое самостоятельное смысловое содержание: в этом отношении электронные коллекции приобретают существенное преимущество, свободные от логики наррации, задаваемой структурой книжного текста.
[2] Одно из первых обращений — вступительная статья и примечания В.П. Золотарева в подготовленном им издании мемуаров Кареева: Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1990.
[3] К сожалению, следует отметить, что не все письма оказались опубликованы (впрочем, насколько можно судить, опубликованы все существенные) — и они рассеяны по разным разделам книги, при этом само разнесение писем неизбежно оказалось несколько произвольно, поскольку в них Кареев сообщает Корелиной и о своих семейных делах, и о преподавании, и о делах академических.
[4] упомянутый выше Ра (ч)ков
[5] из которых Аносовский к тому времени имел наибольшее время существования и приступил к сельхозработам — остальные на тот момент еще не имели даже устава.
