Совмещение изображений
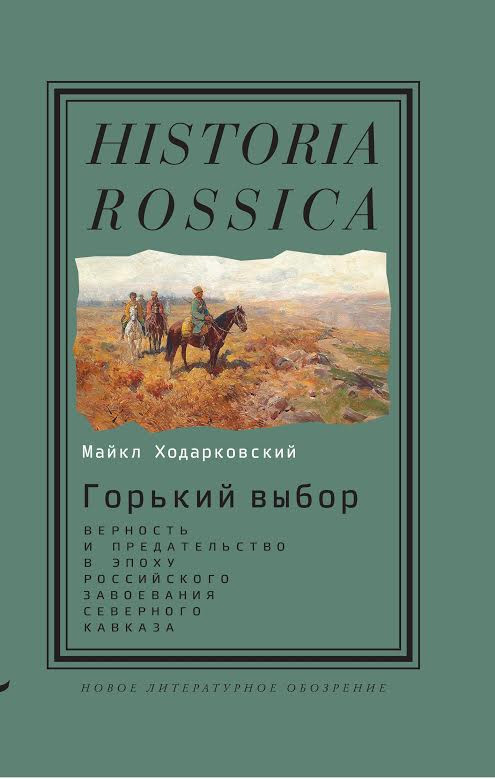
Ходарковский М. Горький выбор: верность и предательство в эпоху российского завоевания Северного Кавказа / авторизованный пер. с англ. А. Терещенко. — М.: Новое литературное обозрение, 2016. — 232 с. — (серия «HISTORIA ROSSICA»).
Вышедшая в 2011 г. в издательстве Корнуэльского университета и только что появившаяся в авторизованном русском переводе работа Майкла Ходарковского представляет своеобразную попытку посмотреть на историю Кавказской войны через биографическую рамку — историю жизни Семена Атарщикова, сына чеченца, переводчика в русской армии, принявшего православие, и ногайки.
Известно о нем не очень много — сначала он пошел по стопам отца, будучи принят в 1830 г. в Петербурге переводчиком в
Внешне не особенно примечательная биография делает резкий поворот в 1841 г. — без всяких видимых причин он бежит к
Собственно, вся биография персонажа, которую можно опереть на более или менее прямые свидетельства и документы, умещается на немногих страницах, оставляя пробелы в самых существенных местах: почти ничего неизвестно о молодости Атарщикова, но не многим более достоверно известно и о том, что он делал во время как первого, так и второго, окончательного, побега.

Но относительная нехватка документов, непосредственно связанных с героем — препятствие относительное. Во-первых, об Атарщикове известно
В результате перед нами не рассказ о лице — а «составная биография», история, показанная через достаточно условно реконструированную человеческую жизнь. К тому же жизнь, лишенную своего голоса, за одним лишь, но тем более драгоценным исключением — подметного письма к казакам, составленного Атарщиковым после своего второго, окончательного побега в ноябре 1842 г.:
«Я, сотник Атарщиков, ныне признан Абадзехами за первостепенного их Узденя и следуют моему совету. Приглашаю, братцы служивые, кому угодно, ко мне идти. Я для всех выстарал право вольности; за Лабу как перейдет и назовется моим гостем, никто не смеет удержать. Меня вот как искать: скажи — я гость Хаджерет Магомета Русского офицера, и сам как Хаджерет, дескать, иду к нему на Куржупс речку, никто не смеет задержать, ибо кто задержит моего гостя, подвергнется штрафу 15 коров. Приглашаю плотников, кузнецов, солдат с ружьями и порохом, барабанщиков, кто с барабаном, музыкантов, господин будет признан как и я, кто деньги принесет это его собственность, никто не смеет отнять. Кто хочет, может ехать в Турцию, а оттоль куда угодно за границу, словом всех приму: Поляк ли, Немец ли, Русской ли, со своими, казенными, барскими деньгами не опасайся, деньги спрячь прежде перейдя Лабу. Это потому я говорю, чтобы на дороге кто воровски не ограбил. Жены здесь хорошенькие. Прошу передать это извести друг другу, прощайте! Хаджерет Магомет. Ожидаю вас.
Не мешает на новоселье как что принесть. Это я на походе пишу, извините» (стр. 182 — 183).
В этом кратком тексте отразилось очень многое — и то разнолюдье, что царило на Кавказе, где служили одновременно сосланные поляки (отправлявшиеся в Дагестан или Чечню так же, как Атарщикова планировали отправить в Финляндию), и немцы, и русские, и мотивы к бегству — от «вольности» до перевалочного пункта, в надежде уйти куда-нибудь в спокойные места, во владения Порты или куда-нибудь еще, с деньгами, своими или «барскими», мир личных связей и одновременно становящихся новых порядков, в которых Хаджерет Магомет устанавливает штрафы. Северный Кавказ эпохи Кавказской войны — это не только столкновение империи с разнообразными малыми группами, но процесс быстрых изменений и среди самих кавказских народов. Возникший в конце 1820-х гг. имамат — единственный (пусть и призрачный) шанс устоять в этом столкновении, создание новой общности, но тем самым он восстанавливает против себя и традиционную местную аристократию, там, где она была, и — в других общностях, не имеющих иерархического устройства или имеющих его в слабом виде — тех, кто был заинтересован в сохранении прежнего порядка управления и устроения жизни.
Обе противоборствующие стороны взламывали местные привычные формы жизни — конфликт вел к поляризации, вынуждая выбирать, а любой выбор означал качественное изменение, возможности остаться так, как были, не было в этих условиях ни для кого. В итоге это предопределило победу империи и последующее долговременное «замирение» Северного Кавказа — на
Фигура Атарщикова позволяет автору описывать ситуацию в разных планах — начиная с проблематики личной идентичности, возможности назвать какую-то группу или сообщество «своим» и быть идентифицированным в качестве такового другими, вплоть до больших событий имперской и международной политики — в их связке с индивидуальным, с решениями конкретных людей или новыми ситуациями, в которых они оказывались или более или менее внезапно обнаруживали себя. Не принадлежа до конца ни к одной из сторон, нигде не будучи до конца «своим», переводчик — профессиональный посредник, обладатель знания о «другом», он оказывался в ситуации, когда каждая сторона и предъявляла к нему требования как к «своему» (офицеру, чиновнику, соплеменнику) и вместе с тем отграничивала, в сложном пересечении, когда «свой» в один момент, он оказывался «другим» в следующий, от него ждали лояльности и подозревали в нелояльности — или наоборот, ведь само прощение, полученное им за первый побег, демонстрирует готовность сделать «исключение», которое не распространяется на «[всецело] своего», его извиняет «Кавказ», «Восток», область сильных чувств, страстей — иных норм, иных представлений, чем те, которые ждут от офицера императорской армии.
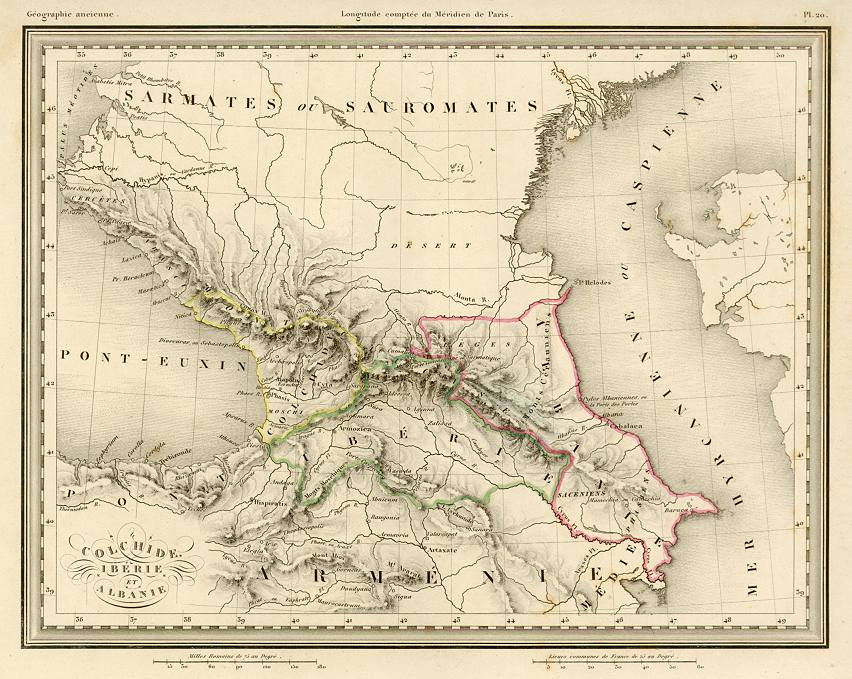
Любопытным образом Майкл Ходарковский видит проблему имперской политики в неспособности, нежелании и/или неготовности признать Кавказ колонией — со своим особым управлением, своей системой норм и т.п., статус и Северного, и Южного Кавказа остается временным — это не «другой порядок», а «исключение», в идеале подлежащее устранению, уравнению с иными провинциями империи (см. заключение). Сомнительно, насколько с этим можно согласиться — учитывая, что замена косвенного управления прямым, стремление к интеграции подданных были отнюдь не специфическими чертами русской имперской политики XIX века, которая разделяла их что с османским, что, например, в иных отношениях с французским опытом. В конце концов оценка здесь оказывается в зависимости от наших предпочтений — ведь если Российской империи не удалось «в полной мере интегрировать» Северный Кавказ (стр. 196), то эта же рамка «единого российского христианского имперского организма» (стр. 200) привела к тому, что пространство оказалось собираемым вновь — в том числе в силу того, что иная пространственная форма («колонии») была изъята.
