Екатерина Захаркив. Доносчики на реальность
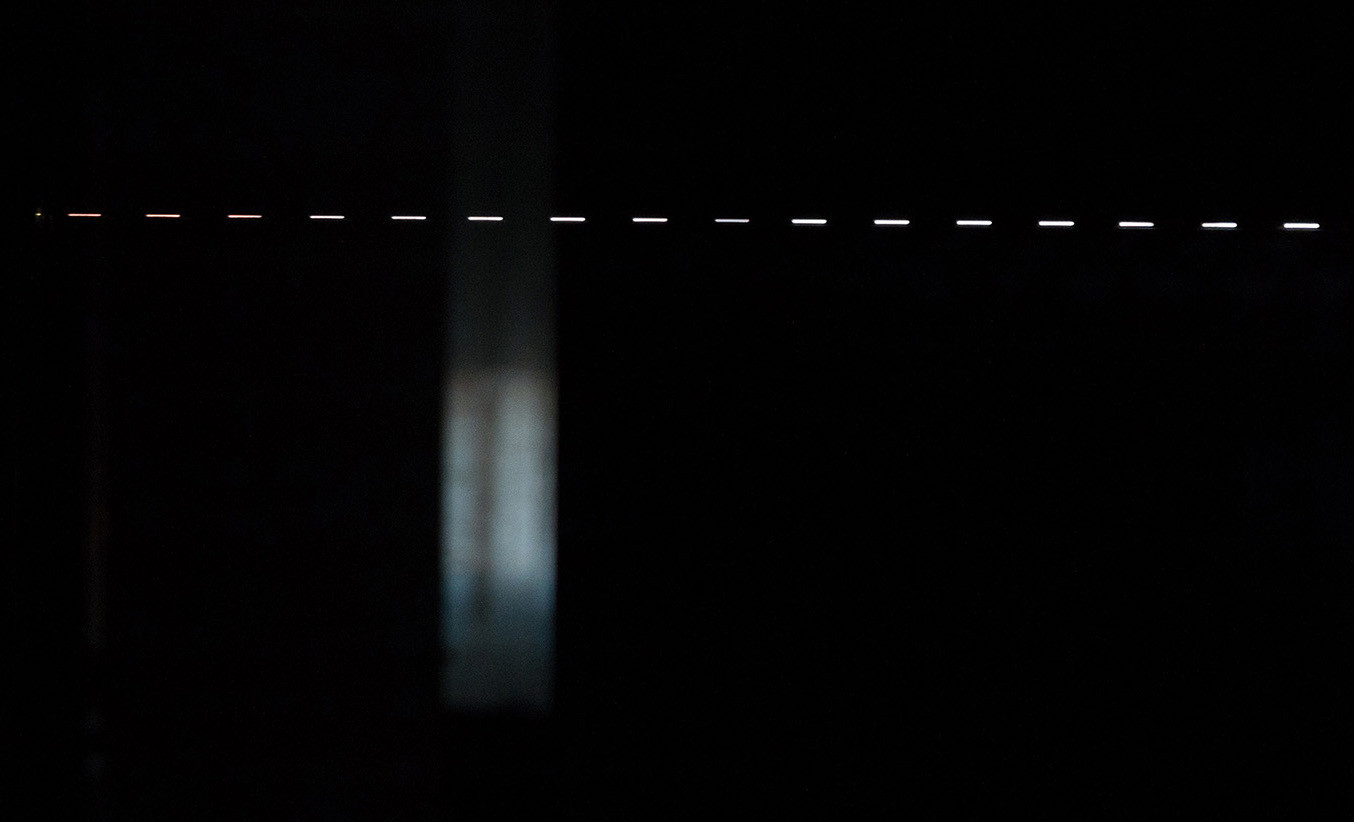
1.
Если бы миграционные ограничения распространялись на область снов. Ходить в сны, расположенные поблизости. У этих снов плохая репутация, они доносчики на реальность. Они напоминают сад, на который выходят наши окна. Напоминают наши мысли, фотографии, разговоры, отраженные в зеркальной невесомости (ангелы или космонавты?), они восприимчивы к звуку газонокосилки на соседнем участке, к лаю деревенских собак, шороху карандашного грифеля. Мы стараемся игнорировать это. Никто не знает наших снов. Они похожи на заключение в ненаписанной книге.
Мы не зовем сны по имени, но иногда позволяем дурному предчувствию истолковывать их. Мой сон Клементина, мой сон Ингеборга, мой сон Рауф, Тесса. Земля, твое горячее сердце бьется в утробной темноте, внутри, ночь за ночью, пока я проживаю забытую жизнь, заброшенную, неутоленную. Поступить в институт снов. Получить степень сна. Я обнимаю сон как младенца и не встречаю его больше ни в одном из снов. Сон — это «тогда», касающееся «что если». «Если», бросающее взгляд на «что тогда».
2.
(1) Элен Сиксу говорит, что писатели — это те, кто спускается, исследует низины, глухие и глубокие. Я представляю могилы, землю, забившую их рты и гортани. Никто не знает, продолжает она, кто написал какую книгу, или кто кого убил. Написала ли Кларисе Лиспектор книгу на скорую руку, потому что думала, что умрет, или же книга положила конец ее жизни. Но это то, чего они не могут сказать. Я не могу сказать: «Я, кажется, умираю», потому что это запрещено, и все же это действительно единственное, что нужно сказать.
(2) Я могу видеть, как сквозь твои пальцы льется дневной свет, стирая тебя. Уложить язык спать (Дж. Джойс). Во сне языка живет камень, летучий клочок сена, млеко, собака, которая скрывает пропасть любви. Мы не обладаем пропастью, но мы видим то, что ее скрывает. Это пикторальный сюжет. Безграничная любовь не подходит нашей экономике, мы не можем справиться с такими открытыми, сверхчеловеческими отношениями. Дневной свет — от пальца до пальца. A mari usque ad mare.
(3) О, Канада (Дж. Митчелл).
3.
Во сне я говорю сквозь два языка. Я пишу «икс» на шлеме скафандра в зависимости от того, на каком языке я погружаюсь: один язык, другой язык, по линии моего сознания они вибрируют. Икс (х): перекресток и неизвестный элемент. Пластырь, наклеенный крест-накрест. Звездочки над стихотворением. Или, иначе, «ха» («ах»): транспортировка дыхания, сухая охапка духоты, соха, высекающая фрагмент из нелокализируемой пахоты воздуха. Эти движения разнонаправлены и взаимозависимы, они совершаются теми, кого я люблю, аэродайверами, которых я обнимаю во сне. Исследователи самых глубоких воздушных шахт утверждают, что спуск обманчив: рано или поздно он встречает сопротивление и прекращается. Там, как нам кажется, находится самый глубокий мир. Мы прибываем в него на длящееся мгновение, как будто кто-то хлопнул в ладони, но все еще не развел их. Как будто пронеслась молния, но гром еще в отдалении. В этом зазоре язык обрушивается материально, словно удар, вернее, два удара, одновременных. Один из них разверзает грезящее молчание и обособленность, другой — падает на грудную клетку, отпечатываясь в виде немыслимых координат: адрес, по которому можно отправить сверхточное сообщение. Оно «читается» телесно — затягиваясь в субстанциальность и затем убывая с плотной волной воздуха.
4.
Когда мы маленькие, мы знаем все по-детски. Сон в своем самом общем движении — это попытка раскопать, снова найти примитивную картину, нашу, ту, которая нас пугает. Вернуться в детство, погрузиться в сон — значит стать свидетелями необычного из-ображения, сцены, секрет которой находится на другой стороне (не у нас), за
5.
Но что происходит сразу после сна? Первое — это звук, он проникает в комнату со всех сторон и незримо присутствует, производя различные повествования (веселые, зловещие, незаметные, истончившиеся от времени, лоу-фай повествования). Звук привносит ощущение близости, соседства… Хотя он раздается без всякого повода, он намекает на то, что что-то случилось до него, или, вернее сказать, для него. И будь то предлог для того, чтобы оказаться здесь, или же предлог («для») как часть речи — почти не видимый, поддерживающий язык — ничто не дано заранее как фон или форма. Все зависит от направления моего внимания, нестабильного, резко зумирующего, наполовину еще принадлежащего сну. И поэтому, несмотря на растущее чувство, что что-то определенно произошло ранее (послечувствие), я не могу установить, чем могло бы быть это событие. Оно теперь слишком близко, оно растворяется в воздухе. Оно так близко, как воздух. Я не открываю глаза.
Что за существа, блуждающие между мирами, подвели ко мне действительность под уздцы? Чем была эта действительность до пробуждения? Застывшим образованием, дефектом представления?
День начинается сам от себя, а потом расползается по комнате, моему слуху, внутри моего тела: багровые сгустки, громоздящиеся точки, тонкая снежная бахрома… Я вспоминаю, что заканчивается осень: лиственные леса уже уступили хвойным.
6.
Думая о структурной фонетике, в частности о феномене, при котором фонологическая оппозиция может оставаться без эффекта («код» и «кот», «бог» и «бок», «глаз» и «глас»)… Это натяжение между «да» и «ага», градиент, демонстрирующий неожиданную драматическую яркость низких интенсивностей. Во сне дистанция орошена нежной истомой — чтобы задать мягкий ритм воображаемому одиночеству, раскинутому между присутствием и отсутствием.
Одиночество прерывается, прерываемость и есть то, что обеспечивает его возможность. При этом одиночество может быть очень глубоким. Его следами отмечены все замкнутые пространства: для работы, размышлений, чтения, сновидений. Эти места окружены извилистыми тропинками, укреплениями, болотцами слез, рассеянными бликами улыбок, проявлениями клаустрофилии. Одиночество обладает плавной и изменчивой формой, единственный его стабильный элемент — неприятие власти.
По обе стороны от утопии сна разверзается кризис, чья приостановка не исключает беспокойства, ужаса и других неприятностей, вызванных властными требованиями. Хотя греза не может быть социальной, нам известна греза о минимальной социальности, об уединении, в котором мир не может осуществлять свои замыслы в отношении тех, кто бежит по своему собственному укромному захолустью. Но и в этом все же присутствует социальный аспект: люди (и животные) должны быть этичными перед взором сновидящего, наделенного двойным зрением — внутри сна и снаружи.
7.
Сон сопровождается тишиной, но в тишине повсюду раздается звук: множество звуков проступают в безмолвных местах, которым мы доверяемся как гарантии нашего отсутствия.
У меня нет слов, мой голос… «Мой голос — меч», — говорит Макбет перед тем, как сразиться с Макдуфом. На протяжении всей пьесы голос Макбета играет отрицательную роль: в начале пьесы он транслирует ложь об убийстве, и, в конце концов, становится орудием самой смерти. Под его аккомпанемент, резонирующий в ее собственном безмолвии, Леди Макбет ходит во сне, этой прогулкой, будто воображением, сшивая сновидческую действительность с
В этом срезе вымысел соотносим со звуком, ощутимое качество которого струится так, что форма больше не может содержать свое содержание. Такое качество проявляется в тишине, выливаясь из нее, как ее же избыток. В онейрических «радиоволнах», слова плавают, точно пятна на невидимости, буравящие ходы в параллельные реальности.
8.
Ковбой, набрасывающий на город лассо снов. Колыбельное эхо сухого удара. Зрение внутрь, переделанное из лета. Трава, произрастающая в одночасье из легкого грунта ощущений. Кассета, вставленная в память в момент пробуждения. Горло неясного неба, уходящего в темноту, будто шахта, в которой угольная пыль удушает. Небо съело нас, как птенцов, что весь день пили у него с языка, сидя на кончике его носа. Черный прибой встает на дыбы.
Видишь ли, они украли у нас луну, ее голубые лилии, они прошлись гвардией по нашей воображаемой поездке. Так много жульничества, воровства, мутной воды. Они украли у нас право выбора, намерение противостоять, технологию удовольствия. Но мы все равно трепещем — потому что трепещет все вокруг, весь гнилой мрак вибрирует с неустойчивым повторением, как нежелание отвечать на звонок, когда лежишь на животе в дальнем пейзаже — или, точнее, между артикуляцией пейзажа и пейзажем.
То, что входит в мое сознание со своим ключом. Философы расходятся во мнениях относительно того, как именно охарактеризовать сны с точки зрения состояния бодрствования. Часто вопросы об онтологии снов пересекаются с эпистемологическими проблемами. Попытка прочитать на расстоянии косвенное разлагающееся чувство. Твоя сладко качающаяся рука в замочной скважине.
9.
В цикле сна обычный 90-минутный ультрадианный ритм (небыстрое движение глаз, их червоточины — половина всего на земле, громыхание вечеринки — половина вторая) разделен на три стадии. Лёгкий сон в спешке летней ночи (1), за которым следуют более медленные тета-рептилии (2) (50% сновидений приходится на этот период), и, наконец, заброшенные диснейленды тиховодного сна (3) (дельта-волны). Далее следует возвращение в
10.
Как насчет того, чтобы поговорить о снах как о возможной форме политического откровения? О чем свидетельствует сон в таком случае?
Задача каждого заключенного, особенно политического заключенного, говорил Мандела, состоит не только в том, чтобы выжить и однажды выйти из тюрьмы в целости, но и в том, чтобы сохранить и даже укрепить свои убеждения. На протяжении двадцатисемилетнего заточения Манделе часто снился повторяющийся кошмар, в котором его освобождали из тюрьмы в необитаемом Йоханнесбурге. В пустынном городе не было ни людей, ни машин, ни собак — никого. Узник (бывший во сне и настоящий — в реальности) шел много часов, прежде чем войти в свой такой же безлюдный дом, дом-призрак с открытыми окнами и дверьми. Этот кошмар Манделы отображает опыт его тюремного заключения, выполняя роль как частного отчета об эмоциональном состоянии, так и глубокого свидетельства политических условий его несвободы. Позже он скажет, что угнетатель должен быть освобожден в таком же обязательном порядке, что и угнетенный. Человек, отнимающий у другого человека свободу, — пленник ненависти, запертый за решеткой предрассудков и контроля. Когда Мандела вышел из тюрьмы, в ней остались все прочие, на свободе не было никого, несмотря на формальное отсутствие ограждений. Сон был таким местом, где он явственно испытывал свое неразделенное чувство свободы.
Можно привести совсем другой пример. В девятнадцатом веке жители общин в восточноафриканском королевстве Буганда использовали свои сновидения для управления социальными процессами. Онейрические озарения толковались как наставления свыше, призывающие целые деревни воплотить предзнаменования или предотвратить нежелательные последствия. Благодаря традиции публичного толкования снов активисты оказывались не просто сновидцами, они транслировали социальные и политические напутствия, доступ к которым открывался при погружении в грезу, пробуждающей к подлинной действительности.
Некоторые сны обладают политическим потенциалом. Отличаясь от обыкновенного сна, они снятся, когда мы бодрствуем в большей степени, чем во время физиологического бодрствования. Такие сновидения позволяют разоблачить искаженную версию реальности, переданную нам властными структурами с требованием, чтобы мы приняли их вариант страны, мира. Прожив воображаемое во сне, мы сохраняем и укрепляем его в собственных телах, буквально практикуя фантазию, становясь агентами грёз.
11.
(1) Сегодня снилось, как я хожу по дикой набережной средневекового города, светит солнце и тронутые разрушением костелы расходятся узорами, похожими на витражи. Иногда вода в заливе фонтанирует радужными брызгами, к которым примешиваются кружащиеся в воздухе птицы, подлетающие очень близко, так что я хочу их сфотографировать на айфон, но никак не могу поймать фокус,
(2) Только что видела во сне пожилую южанку с огромным букетом темно-красных роз, что вызвало во мне воспоминание, одно из тех, что сохраняются как бы в покадровой съемке отчужденной реальности, рваный эпизод из кино, состоящего из дискретных молчаливых сцен. Как-то мы шли в Киеве по оживленной улице, и я была особенно чувствительна к окружающему, и тогда как бы в благодарность за внимание я увидела остановившуюся женщину с еще обжигающей чернотой волос, убранных на затылке. Она держала в руках розу и вдыхала ее запах, стоя в толпе, и глаза ее смотрели куда-то поверх, значит, подумала я, роза — это лишь прикрытие. Женщина замерла здесь не по вине розы, а по неведомому мотиву, и тогда я сама стала расслаиваться на фрагменты от торжества неизведанного.
(3) По ночам во сне слушаю далекое плутоновое радио, доставленное дружелюбной службой звездной пыли в форме улыбки и с ощущением приятного рукопожатия. Борюсь с инертностью речи, храню молчание. По радио передают: «Настала тишина». Когда работники леспромхоза ели яблоки и курили папиросы, космический браконьер охотился на все искусственные объекты и их фрагменты, переговариваясь сам с собой, бродил с ружьем и отдыхал, темнота пригоршнями разбрасывала листья бумаги. Не раньше и не позже, задумчивая навигация, конвейр пустых движений, пилотируемые юдоли на берегах печали, всегда только всегда и никогда, в изменчивости без касания граней этой золотой раковины, предштормовая тишь внутри слов, а потом поток из яркого целлулоида, бьющий вниз, искажая сказанное: is a groze is a groze is a groze is a groze…
(4) В одном из снов сегодня снился выводок чашек, который плыл в темноте среди льда в зимней реке, задевая за маленькие айсберги. Во втором сне снилась другая чашка. Не смогла удержать ее в руках из–за
(5) Снилось, как ты стоишь в мерцающем окне, выкроенном беглой форелью. Рядом я, будто бы плавясь от счастья и любви, в предельном будущем, где никто уже не сможет обратиться вспять, откалывая время на любование, ни один ангел в зацикленном воспроизведении.

Екатерина Захаркив — литературная и выпускающая редакторка (проекты «Ф-письмо» на Syg.ma, «ГРЁЗА»), соосновательница и главная редакторка альманаха-огня, исследовательница современной поэзии, переводчица, лингвистка (Институт языкознания РАН). Стихи переводились на английский, испанский, польский, латышский и китайский языки и публиковались в журналах «НЛО», «Зеркало», «Носорог», «Ф-письмо», “Lana Turner”, “Punctum” и др. Лауреатка премии Аркадия Драгомощенко (2016). Авторка книги “Felicity conditions” (М.: АРГО-РИСК, 2017). Живет и работает в Москве.
