Олег Кашин: отрывок из книги «Горби-дрим»
Люди в России, как известно, рождаются сразу спорными, неоднозначными, а часто и одиозными фигурами. В начале тридцатых ситуацию усугубляло родство. Два его деда представляли две крайности русской деревни того времени — дед Андрей был, по принятой тогда классификации, кулак, дед Пантелей — организатор и председатель колхоза. Посадили в итоге обоих, одного понятно за что, второго за троцкизм. В дневниках моей прабабки, бывшей в те времена судьей на Алтае, я читал, что
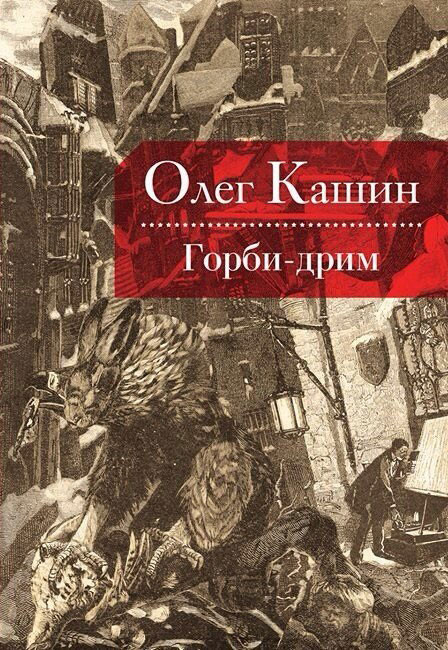
— Ты просыпаешься утром, а у тебя вернулся из ссылки дед. Радость, праздник? Я сейчас рассказываю, и мне самому кажется, что радость и праздник. А на самом деле было как-то
Дату, когда он вырос, он помнит точно — 21 декабря 1939 года, в Привольном праздновали шестидесятилетие Сталина, был митинг, и он сделал себе из
Немцы пришли в Привольное утром 3 августа 1942 года, он встретил их, когда шел за водой — шли по улице трое, все в форме, разговаривали по-немецки, но матерились по- русски — он говорит, что это был первый раз в жизни, когда он услышал «эти слова».
— Ходят, ходят, ходят, ищут квартиру какому- то своему офицеру, чтоб ни блох не было, ни вшей, ни клопов, чтоб чистота — а бабка моя чистоплотная была женщина, у нее блестело все. Заходят к нам. Вещи бабкины смотрят, постель, клопов-блох ищут и так далее. Заходят и говорят: «Гутен морген, ёб вашу мать». Бабка моя: «Боже, за что ж они меня так, за что?» Я ей говорю: «Бабуся, не переживай, это они по-русски поздоровались». Она: «Ка-а-ак? Мне восемьдесят лет, я ни разу не слышала, чтоб со мной матюками здоровались». Ну вот, они зашли, и офицера к нам подселили. Подселили его, он у нас два месяца прожил. Земляк был, кстати, твой, из Кенигсберга.
Мой земляк был, видимо, из тех эренбурговских героев, которые постоянно слали в Германию своим Гретхен письма о том, как плодородна русская земля и как покорны русские крестьяне, и что после войны надо будет остаться именно в этих краях, «у нас будет огромное поместье, в котором мы с тобой, любимая, будем жить» — заочное представление о немцах у жителей Привольного было вполне четкое, но этот кенигсбержец если и планировал стать местным помещиком, то
— По-русски он говорил неплохо, все пытался со мной поговорить о Достоевском, которого я — мне одиннадцать лет было, — тогда еще, конечно, не читал. Рассказывал мне про Канта, говорил, что когда Россия оккупировала Пруссию при царице Елизавете, Кант первый принял наше подданство, и за это немцы его считают предателем, а он не предатель, просто Кенигсберг для Германии — это ворота в Россию, и если сейчас Гитлер проиграет, а он вообще почему-то был уверен, что Гитлер проиграет — это в сорок втором-то году, — то России обязательно достанется Кенигсберг, и было бы даже интересно посмотреть, справятся ли русские с таким городом, ведь в России нет городов, по крайней мере, те города, которые он видел, в том числе Ставрополь, больше похожи на деревни, и он не представляет себе Кенигсберг русским городом. Я его уже совсем не боялся и сказал ему тогда, что Кенигсберг — это слишком мелко, русские будут и в Берлине, он стал спорить — Берлин вряд ли, в лучшем случае его разделят между собой русские, американцы и англичане, и если русские хотят, чтобы от них никто не убегал к американцам, то разумнее всего будет построить через весь Берлин большую стену, как в средние века — если стена будет высокая, и через нее нельзя будет перелезть, то, пожалуй, в этом случае Берлин может стать интересным русским городом, похожим на тот Петербург, про который он читал у Достоевского и Андрея Белого. Я помню, что сказал ему, что стена через весь город — это совсем не
В отличие от большинства других оккупированных сел, колхоз в Привольном немцы распустили, точнее — не стали восстанавливать, потому что после взятия немцами Ставрополя и эвакуации колхозного начальства колхоз не то чтобы самораспустился, но перестал существовать, урожай 1942 года делили между семьями уже при немцах, которые даже почему-то ничего не стали забирать себе. Оккупация Привольного вообще выглядела совсем не так, как мог представить ее себе читатель Эренбурга — даже назначение старосты, то есть заведомого пособника оккупантов, врага, карателя и Бог знает кого еще, немцы согласовали с местным населением, собранным по такому поводу на сход, и единственный кандидат — старейший житель Привольного Савватий Зайцев, которому было тогда за восемьдесят, набрал почти триста голосов при одном воздержавшемся.
— Это были первые выборы, в которых я участвовал, хотя до сих пор не знаю, засчитали немцы мой голос или нет — но никто ведь не говорил, что дети не имеют права голосовать. Дед Савва — я знал его, конечно, с детства, старик был хороший, воевал в японскую войну, семьи не было, но работал сам как молодой, сад у него был огромный, до немцев политикой, по-моему, не занимался, а как стал старостой, так у него эти инстинкты проснулись сразу, он и организатор, и хозяйственник, и дипломат. Они повесили плакат, что Германии нужны рабочие, ходили слухи, что всех будут насильно уводить, но дед Савва сказал, что если нужны рабочие, то пускай его первого и забирают, а потом уже всех остальных. Немец, который специально приехал набирать рабочих, смеялся, потом сказал, что подумает, и больше к этой теме не возвращался, уехал в Ставрополь один.
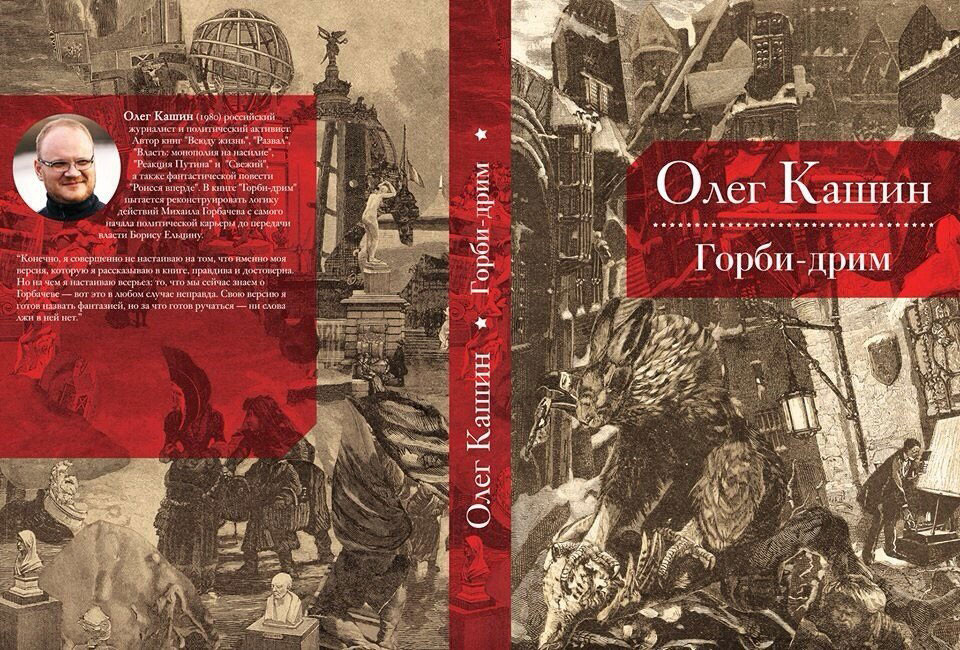
Город Ставрополь, когда его взяли немцы, назывался, между прочим, Ворошиловском, и первым приказом немецкого коменданта было вернуть городу историческое имя, Ставрополь снова стал Ставрополем. Советский указ о переименовании Ставрополя вышел только к зиме, когда красная армия перешла в контрнаступление, и слово «Ворошиловск» в сводках Совинформбюро звучало бы странно. Из Привольного немцы уходили ночью под самый новый год — старосту Зайцева звали с собой, но он ответил, что уже передумал становиться немецким рабочим, годы не те, да и за садом некому ухаживать. Потом его осудят на десять лет, умрет в лагере.
— Дед Савва — это была первая власть, которую я видел, с которой разговаривал и про которую понимал, что вот она власть и есть. Я потом много раз к этому возвращался, пытался уговорить хотя бы себя, что это была не власть, а оккупант, которого поставили оккупанты. Но постойте, это же наш дед, он у нас сто лет прожил, мы сами его выбрали. Не укладывалось это в голове никак, и я сам себе объяснял, что власть бывает советская, Сталин там, Калинин, а бывает вот такая, которая вроде бы своя, но по всем бумагам немецкая. Вот как это? Калинина же вообще, может быть, и нет, может быть, мы его придумали, а дед Савва точно есть, и тогда получается, что энкаведешники из Ставрополя, люди, которых мы видели первый раз в жизни и, скорее всего, последний — вот эти незнакомые люди забрали у нас нашу власть. Это странно было очень, я даже с точки зрения самого Сталина не мог себе это объяснить.
