Экспозиции (2009-2012)
За последние десять лет у нас накопилось довольно много текстов, написанных с целью использования для / внутри / после и пр. тех или иных экспозиций. Все они довольно непохожи друг на друга. Однако существует один серьезный водораздел. Изменение, делящее их пополам, произошло на рубеже 2013-2015 годов, когда наши зачастую кураторские тексты об экспозициях начали концептуализироваться и уступать место текстам художническим, имитирующим кураторский описательный стиль. Содержательно это выразилось в том, что созданное после 2013 года стало звучать более монотонно, скучно, бюрократизировано — как набор плохо связанных между собой языковых штампов арт мира. Кристаллизация этой тенденции произошла в рамках проекта «Возвращение» (2017-2018), где тексты к вновь и вновь создающимся (пере)экспозициям писались нейросетью, натренированной десятилетиями анонсов журнала e-flux. Напротив, то, что сочинялось нами для выставок вплоть до 2013 года — довольно автономные, игровые и дисфункциональные с точки зрения возложенных коммуникативных обязательств материалы. В этих текстах часто нет никаких отсылок к экспозициям, которые должны быть прояснены, нет имен художников, названий произведений, институций и т.д. Они сами нередко выстроены в логике коллажа или выставки / экспозиции — с отдельными экспонатами порой в виде реди-мейдов живой речи или релевантных цитат. К счастью или же нет, но во многих случаях помимо живущей в
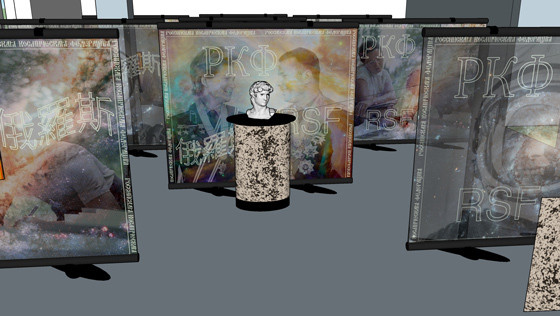
«Великолепная дыра или то, что делает вещь вещью»
«А ты помнишь, что было до товарного фетишизма?» — спрашивает ДСП у репродукции. «Не знаю, может спросить у нефти или у работы?» «Работа делает капитал, кажется, она занята, нефть не в духе». Мир товаров впал в мечтательную задумчивость. Остывая от необходимости вечного сияния, образы робко начинают движение. Они путаются, спотыкаются, но все же выстраиваются в непозволительно трогательные истории.
Атмосфера конца 80х — начала 90х. Чувство надвигающегося апокалипсиса и интуиция возможности открывающейся свободы, новой коллективности. Хрупкое равновесие между уже и еще. Остановка, шестерни двигающие потоки капитала замерли, их старые зубы стерты, а молочные пока еще ждут своего часа. Время есть, время есть, время есть, денег нет. Творческий эксперимент, не знающий ограничений прагматики, пока еще не искушенный рыночными богами. Время есть между — а значит, время для мечтаний на руинах внезапно успокоившейся бури. Через мгновение этот мир исчезнет в пене дней, и конвейер возобновит свой ход.
«Вещь превращается в товар в акте потребления», — написано в коде. О том, что до, о том, что после — мы ничего не знаем. Пустое времяпрепровождение. Но именно это пустое образует пространство чуда, обретающего свою форму по контурам данного. Золотой век, вечно запаздывающий за здесь и сейчас, неожиданно споткнувшись, хлопает работу по плечу. И этого замыкания достаточно, чтобы жизнь состоялась. Интересно, а может ли замыкание быть реди-мейдом? А атмосфера свободы?
Другая история. Что нужно для свободы? Нужно пространство, но желательно, чтобы оно было одновременно и публичным и только твоим. Чем-то таким был интернет на заре своего существования в мечтах его первых послевоенных пользователей. А раньше? Коммуникация, коммуникация, коммуникация, коммуна. В конце 80х служители публичных библиотек и прочих мест скопления интеллигенции столкнулись с проблемой повальной порчи имущества в отхожих местах. Стены кабинок подвергались активной эксплуатации в качестве медиума анонимной передачи генетической информации. Отчуждение рождает возможности для близости. Оглядываясь назад — «Glory holes» предстают переходным типом человеческого, мессенджером разрыва, после которого физическое присутствие становится излишним.
(2009)
***
«Машина и Наташа»
На московской фабрике, специализирующейся на производстве бумаги, начинается вторая после 1917 года замена оборудования. Разрабатываются планы нового производства. Машину для изготовления заказывают за рубежом — в Финляндии. В обществе царит атмосфера доверия. Холодная война окончена. Вскоре будет разрушена берлинская стена. Предчувствие свободы витает в воздухе. Кажется, что освобождение близко как никогда. Возможно, нечто подобное чувствовали революционеры 70 лет назад.
Молодая работница Наташа устраивается на завод, где проведет 25 лет своей жизни вместе с грунтовальной машиной, на которой она будет работать одна. Даже сегодня, когда производство остановлено, она продолжает за ней ухаживать. 25 лет, в которые уместилась эпоха от эйфории и надежды до разочарования и уже новых машин, выстроенных совсем по иным принципам.
«Искусство — это не отражение реальности, а реальность отражения», — произносит персонаж Жан Люка Годара за год до революции 1968 года. Цикл надежда-разочарование вновь и вновь становится движущий силой производства реальности. Спастись в бездне котлована — значит, спастись в утопии бесконечного строительства. И если в начале прошлого века это строительство было еще как-то привязано к природе и борьбе с ней, то в начале ХХI столетия человечество все чаще имеет дело с бесконтактными интеллектуальными конструкциями.
Последние спазмы индустриального производства совпали с надеждами на спасение советского коммунистического проекта. Вторая половина 80х — время поисков и модернизаций.
Негри и Хардт высказывали мысль о том, что СССР развалился именно по причине невозможности перейти к постиндустриальному производству. Советский народ, совершив мощный индустриальный рывок и затем одержав победу в войне, мог бы надеяться на психологическую компенсацию в виде ослабления властного прессинга и роста личной свободы. Переход от дисциплинарного общества к обществу контроля, важнейшую роль в котором сыграли революционные события 60х, осуществил такую компенсацию в капиталистических странах. В Советском Союзе же этот переход по большому счету начался лишь в 80е и закончился (если закончился) уже после краха коммунистической системы в начале следующего века.
Эхом этих событий являются сегодняшние спазмы капитализма или того, что принято под ним понимать в России. Все чаще выставки современного искусства проходят в бывших промышленных зонах. А на смену индустриальному рабочему приходят когнитивные пролетарии в лице художников и представителей культурной индустрии. Но модернистская максима — сделать видимым то, что делает видимым, по-прежнему удерживает интерес к истории, разворачивающейся у нас на глазах.
«Машина и Наташа» — это история через призму личного переживания. В экспозиции представлены работы, сделанные в сотрудничестве с Наташей. Большая часть художников — это ровесники грунтовальной машины, установленной в выставочном зале. Сквозь свои личные истории они прочувствовали исторический разлом, произошедший в конце 80х-начале 90х, поэтому во многом те ответы, которые они дают своими работами, основаны на особом чувстве истории, звучащем в унисон. Если присмотреться к этому чувству, станет понятно, что во многом оно строится уже не на отношениях человек-человек, а на отношении человек-машины. Машины, производящие человеческую субъективность. Это та дань, которую платит человечество за отказ от человеческого.
С тех пор, как идея стала машиной, драматургия художественного жеста строится по схемам производственных циклов.
После вернисажа начнутся работы по демонтажу производственного оборудования. К окончанию выставки машина будет полностью разобрана, а в освободившемся пространстве пройдет круглый стол по проблемам нематериального труда и новым типам концептуальных практик.
(2009)
***
«Трудовая книжка»
Существует огромное количество разнообразных определений «неустойчивой занятости». Этому явлению каждая организация в зависимости от контекста и местных или отраслевых особенностей дает свое название и описание. В европейской традиции принято говорить о «нестандартной занятости», причем в это словосочетание не обязательно вкладывается негативный смысл; подразумевается, что многие работники ищут различные формы гибкого найма; общеевропейские директивы выделяют бесчисленные виды и подвиды таких отношений.
Возникающую же в них неусточивость, уязвимость работников принято обозначать словом «precarity», прямого аналога которому в русском языке нет.
В ЮАР наиболее распространенной формой неустойчивой занятости являются расщепленные трудовые отношения, посредниками в которых часто выступают мелкие, сомнительные фирмы, которые принято называть «трудовыми брокерами» («labour brokers»). В Корее агентства занятости маскируются под подрядные организации, поэтому там принято говорить о «субподрядчиках », подразумевая при этом посредников в трудовых отношениях.
В России широкое распространение получили такие термины как «аутсорсинг» и «заёмный труд». Во многих странах и профсоюзах, недавно столкнувшихся с подобными явлениями, обозначения для них только формируются. Мне не нравится, что вы не обсуждаете эстетических вопросов. Совершенно очевидно, что существует запрос именно на политическую организацию.
Замечательно, что политизация будет происходить через практику борьбы, а не через слова. Профсоюз — лучшая школа молодого коммуниста. Намного реальней создать в Москве альтернативную выставочную институцию и подсесть на международные деньги и контракты, чем создавать профсоюз — милый, но бессмысленный жест. Вот полезная ссылка, коллеги уже сделали методичку. Среди многочисленных вызовов, с которыми сталкиваются сегодня профсоюзы Восточной Европы и Центральной Азии, особую обеспокоенность вызывает все более широкое распространение неустойчивых форм найма.
Подрывая уверенность работников в будущем и лишая их возможности эффективно использовать право на объединение и коллективные действия, неустойчивая занятость усиливает все другие негативные тенденции в сфере трудовых отношений. А организовывать объединение для защиты от трудовых конфликтов — это либеральная практика, она мне не интересна. В задачи профсоюза не входит обсуждение эстетических проблем, для этого надо создавать художественную группу.
Вы выступаете, как мелкие буржуа, которые хотят продаться и сразу же вписывают в свой труд цену за него, но в случае с искусством это не работает! А ты, как отчаянный романтик, который с детской наивностью говорит «Я в домике», чтобы вновь и вновь удивляться тому, что его великое произведение искусства функционирует в режиме товара. Не честнее ли сразу же признать тупиковсть этого пути? Сразу же отказаться от производства произведения искусства.
Получающие в последние годы все большее распространение практики неустойчивой занятости (аутсорсинг, заёмный труд,оформление трудовых отношений гражданско-правовыми договорами, неформальная занятость и т.п.) являются источником дискриминации и нарушений прав человека, подрывают основополагающие трудовые стандарты, увеличивают неравенство и бедность, имеют крайне неблагоприятные последствия в сфере социальной защиты работников и охраны их жизни и здоровья на производстве, создают почву для нарушений трудового и миграционного законодательства и широко используются работодателями в качестве антипрофсоюзной стратегии.
Да, но ты же понимаешь, что это слепое пятно! Использование стартапов, работа без контракта, волонтеры и пр. Думаю, в следующий номер можно было сделать отчет за 00-ые. Кто и как писал вам за последние десять лет.
Было бы интересно почитать. Но ведь это сразу обговаривается — никто никого не обманывает! Сразу говорится, что это скорее разновидность активистской деятельности.
Но почему бы не поднять этот вопрос? Это же важнейшая вещь. Наряду с занятостью в неформальном секторе экономики наиболее варварской формой неустойчивой занятости является заёмный труд — практика заключения организациями по содействию трудоустройству трудовых договоров с соискателями для использования их личного труда другими организациями или индивидуальными предпринимателями.Эта практика противоречит российскому трудовому законодательству, которое определяет трудовые отношения как отношения двух равноправных субъектов, работника и работодателя, без участия каких-либо посредников, а также гражданско-правовому законодательству РФ, запрещающему делать человека объектом гражданско-правового договора. Наибольшую обеспокоенность профсоюзных организаций вызывают формы найма, связанные с отказом работодателя от признания своей ответственности перед работником —различные формы неформальных отношений, не оформленных договором, подмена трудового договора гражданско-правовым, попытка «расщепления» работодателя в рамках различных форм расщепленных трудовых отношений, а иногда — и при помощи «традиционного» аутсорсинга. Как можно начинать что-то делать вовне, не разобравшись со своим и внутренними проблемами?!
Единственная реальная цель — создание фандрайзинговой организации, но это не профсоюз. Нам не хватит денег даже на юриста. Назови мне людей, готовых платить взносы? Никто не сможет это делать. В этих случаях работники теряют возможность эффективно отстаивать свои права, в том числе и через профсоюз, поскольку исчезает «вторая сторона» трудовых отношений, работодатель как субъект ответственности.
Работнику (или профсоюзу) оказывается не с кем договариваться об условиях труда. Молодым вообще не за что платить. Их надо учить, платить за учебу глупо! Я не вас имею в виду. Мне, кстати, платит! Если это скомканные речи — это довольно пошло выглядит! Я знаю. ЧД тоже не будет никогда платить! У них деньги только на печать и переводчикам… Все пишут как активисты! Это нормально. Это вопрос? Существует бесчисленное количество форм таких «расщепленных» или «трехсторонних» трудовых отношений. Работодатели используют схемы, наиболее удобные и подходящие для них в каждых конкретных условиях. Поэтому четкие определения здесь дать довольно тяжело.
(2011)
***
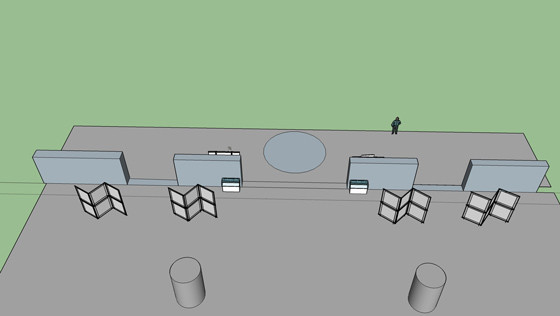
«Рынок “Труд”»
До университета я добирался на маршрутном такси. От остановки «Проспект Труда» до остановки «Рынок “Труд”», что в самом центре города. Слово «рынок» в названии остановки было нововведением, раньше это был просто «стадион “Труд”». Но, как и большая часть стадионов в 90-е, «Труд» превратился в гигантскую торговую площадку. В детстве мама покупала мне там одежду. И должен признаться, мне жутко все это не нравилось! Я больше любил футбол и
Уже потом, когда я учился в ВГУ, один из наших профессоров философии рассказывал историю о том, как
К концу нулевых, когда у меня уже не было необходимости каждый день ездить между двумя трудовыми остановками, количество рынков начало постепенно сокращаться. Возить товар самостоятельно стало невыгодно. В родном Воронеже уже появился весь спектр брендов, представленных в модных разделах московских журналов. В столице же финалом этой истории оказалось закрытие «Черкизона», недалеко от которого мне тоже выпало счастье какое-то время пожить. Поколение челноков уходило в прошлое. Самые удачливые стали видными бизнесменами. Кто-то сел в тюрьму. Кого-то уже нет в живых. А некоторые даже вернулись в старые профессии. Но меня не отпускал «Труд». Я постоянно возвращался к этому месту, когда приезжал в Воронеж. Особенно вечером, в конце рабочего дня, когда яркую бюреновскую красно-белую ткань палаток прятали в подсобки и рынок превращался в гигантский пустырь, заставленный покосившимися железными остовами. Позже мой интерес привел меня к близкому знакомству с Александром Долговым, советским инженером, а впоследствии российским челноком. Мы записали с Александром большую беседу, в которой он рассказал историю своей жизни — путь от станка до палатки и, как ни странно, обратно. Сегодня Долгов вновь работает по профессии. Оказалось, что старые советские прессы, которые он ремонтировал в 80-е, работают до сих пор. Но вот людей, способных их обслуживать, почти не осталось. Тогда и вспомнили интеллектуальных тружеников страны советов. Долгов, сам фотолюбитель, по иронии судьбы работает сегодня при помощи фотографии. Ему достаточно снятого на камеру мобильного телефона и присланного затем по электронной почте снимка поломанного узла пресса, чтобы указать, как устранить неполадку. После ремонта он фотографирует на память починенный и вновь выкрашенный пресс, выглядящий так, будто только что сошел с конвейера.
(2011)
***
«Лесной царь»
И, в общем, об этом никто не знает. Только парни местные и несколько моих друзей. Все на пафосе вообще. Короче, сначала на тачиле едешь около, ну, так минут тридцать. Мимо Орловки с психами, мимо карьера с говном. Потом еще около часа надо идти по лесу, вообще почти без дороги, просто ориентироваться по зарубкам. Вообще не знаю, как там зимой или осенью по грязи. Знаешь, как фильм такой есть… как это… Короче, там по лесу чуваки ходят и снимают все на любительскую камеру. Черт, как же его… А! «Ведьма из Блэр», короче. Вот то же самое. Я, когда ходил к нему первый раз, он мне сунул записку. Говорит, посмотри на обратном пути. Когда шел по лесу, аж в дрожь бросало. Но потом понял, что действительно затягивает. Хочешь снова вернуться. Как маньяк, знаешь, который на место преступления возвращается. Не знаю, может, места такие. Бандиты, и все дела. Может, просто много трупов после войны осталось. Я тебе сейчас прочитаю. Сейчас… Дитя, Дитя, блин… я пленился твоей красотой… Неволей иль волей, а будешь ты мой. Родимый, лесной царь нас хочет догнать. Уж вот он: мне душно, мне тяжко дышать. Ездок оробелый не скачет, летит, мла… денец тоскует, младенец кричит… ездок погоняет, ездок доскакал… В руках его мертвый младенец лежал! Вроде как считалочка детская или что-то типа того. Ну, в общем, без разницы, ты идешь, идешь, идешь и выходишь на такую небольшую полянку. На ней стоит его дом. Если это можно назвать домом, но он прочный такой. Шалаш скорее. Мне очень нравилось там бывать. А на бревне рядом со входом вырезано — «Лесной царь». Это типа его такое погоняло. Прикольное, да? Я не знаю, как его зовут на самом деле. Вася, может, Саша, Петя, Ваня, Джером ваще. Ну вот. И он выходит такой каждый день и начинает рубить там все. Царь зверей нах! Короче, красит баллонами такие штуки, ну, как объяснить… Угорает нормально, короче. Я тоже пробовал, ничего так получается. Особенно, если луговая арфа начинает звенеть, тогда вообще просто оторваться не можешь. А на пне при входе у него Квентин Мейясу лежит, «После конечности», прикинь? Прошаренный парень в этих вопросах,
(2012)
***
Писать о работах Александра Повзнера довольно непростая задача. Он слишком точен в своих действиях. Ни больше, но и не меньше. Разве можно словом за действием угнаться? Пожалуй, что только погрузившись в толщу языка можно прикоснуться в тексте к сути его вещей. Искусство здесь похоже на пятнашки. Элегантный минимальный жест — всего лишь игра с пустотой. Едва заметная неловкость. Что-то прибывает в статичную ситуацию нашей повседневности — и вуаля — единица превращается в двойку. Добрый и злой полицейские разыгрывают свой излюбленный трюк. Зритель в замешательстве, но и легкой эйфории. А можно еще раз? Ок.
«Брутто» — это то, что делает вещь вещью? Темная, томная, манящая. Прибавляет он. Обратимся к Декарту. Пусть я буду сотовый телефон. А ты будешь, ты будешь — ринг-тон такой — “бумажный тигр раненный в кровь” два раза. Повзнер продолжает упорствовать в странном занятии. Это может показаться со стороны чудачеством. Можно сказать так. Работа машины отрицания против остановки. Он прибавляет и смотрит за результатом. Питается в хорошем смысле негативом нового. Мы видим историю Пятницы, который живет на
Есть несколько серий. Одна родилась как домашний космос, после большого взрыва. Кружки, квадраты, чашки. Все обрело свою финальную траекторию. И время остановилось. Время ушло вслед за человеком. Весь этот новый реализм завис и дрожит словно стоп-кадр на старом VHS видео-магнитофоне. Другая пришла полноводно так будто никогда и не уходила. Цельная в своей монументальной хрупкости серия больших вещей. Молчаливый колокол и деревянный якорь отвечают здесь за сбой. Модернистскую ошибку par exelent. Неизбежная как вещь, падающая на Хиросиму. Систематическая, слишком систематическая. Еще одна — целая армия вещей с острова Пасхи. Они смотрят на тебя, они хотят тебя в жертву. Они нацепили свои шкуры нуль дизайна и уже точат ножи. Вечная весна.
Мы же, мальчишки, мастерили из дубовой коры кораблики и, снабдив гребными банками и рулем, пускали их в ручье, или в бассейне у школы. Эти дальние плавания еще без труда приводили к цели, а вскоре оканчивались на своем берегу. Грезы странствий еще скрывались в том едва ли замечавшемся сиянии, какое покрывало тогда все окружающее. Глаза и руки матери были всему границей и пределом. Словно хранила и ограждала все бытие и пребывание ее безмолвная забота. И
(2012)
