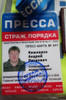Аналогии по Гашеку. Бравый солдат Швейк в роли Ивана-дурака и трикстера в 1915 и 2025 годах
Уточнение и актуализация причинно-следственной связи явлений и событий в старой Австро-Венгерской империи 1914–1916 гг., мастерски отраженных писателем-описателем Ярославом Матеем Франтишеком Гашеком (13.4.1883-3.1.1923), в сравнении и корреляции с войной в Украине спустя 110 лет в обширном российском государстве. В этом смысле роман литератора с мировым именем является современным и пророческим. Потому и считается классикой мировой литературы со времени первых изданий.
Оба временных интервала, разделенных 110-летним отрезком и вынесенные в заголовок, по-своему интересны, в том числе аналогией в части проблемных, остросоциальных вопросов на злобу дня. Среди ярко выраженных общих черт между предвестниками и событиями можно заметить несколько аналогий. Чтобы увидеть их желательно рассматривать вопрос комплексно — с учетом реалии и истории, которая по меткому выражению Г. Гегеля повторяется — сначала трагедией, а потом фарсом. В разных плоскостях — в военной, политической и социальной.
Редкий промежуток времени приходится мирным хотя бы на одно поколение (50 лет) в мировом масштабе — как ранее, так и сейчас. Так, период международной нестабильности и войн охватывал Российскую империю с 1904 года, завершившись первой русской революцией и дарованием императором манифеста 17 октября 1905 года, а Европу — с 1912 года, когда военные силы Австро-Венгрии втянулись в войну на Балканах. Поэтому социальная напряженность существовала все предвоенные годы вплоть до убийства в Сараево 28 июня 1914 эрцгерцога Франца Фердинанда, что признается историками как повод для начала Первой мировой войны спустя месяц — 28 июля.
В начале войн и конфликтов всегда активизируется пропаганда с целью повышения боевого духа и столь же усиливается давление полицейской машины. Даже если война не признана войной. Как это было, к примеру, в 1939–1940 гг. в «Зимней войне» (название в соответствии с финской историографией), когда Финляндская республика потеряла часть территории со вторым по значению в стране городом Выборгом, как в две чеченские кампании 1994-1996 и 1999–2000 гг. с введением режима контртеррористической операции (КТО), или как в нынешние времена в январе 25 года ХХI века от рождества Христова, называемые СВО в Украине и КТО в трех областях России, пограничных с Украиной.
Итак, первое, что можно трактовать как аналогию рассматриваемых точек времени — предвоенная обстановка, растянутая с разной активностью на несколько лет. Примерно то же (в общем) было перед Второй мировой войной, когда лидеры мировых держав, мнивших себя великими, разделили сферы влияния. В сферы влияния попали миллионы людей в России, Прибалтике, Европе, Скандинавии, Дальневостиочном регионе. И продолжились трагедии.
Природа человека неизменна
Вторая заметная аналогия – условно техническая. Несмотря на развитие эволюции и научного прогресса, миллионы видеокамер наблюдения, системы идентификации на их основе, благодаря цифровизации — «моментальные» способы передачи данных, информповодов на расстояния и в целом — электронной коммуникации, несмотря на распространение смартфонов и «интернета вещей», с помощью которого можно включить электрочайник в Москве управляющим сигналом из Праги — основы межличностных отношений людей не претерпели фундаментального изменения. Человек и сегодня мотивирован теми же условиями, как и век назад. Мотивация, как и прежде, является основой выбора гражданской позиции. Такие общественные язвы как предательство, доносительство, корыстолюбие, коррупция и даже конформизм могут изменить форму, но не суть, которая до сих пор осталась прежней.
Результаты научно-технического прогресса, в том числе «космические корабли, бороздящие просторы вселенной» и даже искусственный интеллект можно назвать атрибутами и маркерами времени, но на фоне неизбывной человеческой природы, в основе которой, кроме желания социализации, всегда заметно желание успеха в социальном соревновании за блага, желание сохранить и преумножить, в том числе активы и качество жизни, желание блистать и влиять за счет других. Именно эти факторы являются «полярными» или объединяющими по мировоззрению группы людей с одинаковыми ролевыми ожиданиями. К примеру, сторонников и противников СВО, избирающими соответственно своих авторитетных кумиров и единомышленников. Так объединяются в сообщества по ницшеанской максиме: «кто сильнее, за тем и правда». Но что такое сила? И что такое правда? На этом поле во все времена существует много интервенций и провокаций, сдобренных пропагандой. К примеру, в сценарии Г. Горина «Тот самый Мюнхгаузен» (и в одноименном фильме 1974 года, от лица баронессы сказано: правды вообще не существует, правда — то, что в настоящий момент считается правдой». Когда в России переписывают учебные программы в том числе в области истории, стоит вспомнить и об этом. А для определения смыслов более подходит позиция независимая или, скажем, позиция Канта с его нравственным императивом. Люди — они и в Африке — люди.
Теперь в России это хорошо видно. То же было в лоскутной империи «Австро-Венгрии» — как ее неофициально называли, образца 1914 года. Как писал Ярослав Гашек в третьей части романа «Торжественная порка»: «В то время как здесь короля били тузом, далеко на фронте короли били друг друга своими подданными».
Говорить однозначно о слабой боеспособности австрийской армии (как принято в российской популярной историографии) некорректно. Ежели вообще о чем-то в продолжающихся исследованиях можно говорить однозначно. Ведь исследователь не пытается кому-то и что-то доказать, а лишь установить факты, намекнуть на обобщения и причинно-следственную связь явлений. Достаточно вспомнить военные успехи австрийцев в наступлении на Белград (быстро нивелированные) или заслуженные победы в Италии, вступившей в войну 23 мая 1915 года на стороне России и Франции, или полного разгрома военного и политического строя в Румынии в 1916 году, ранее присоединившейся к тому же блоку. Да и сам чехословацкий корпус, сформированный из пленных уже в России, был неоднороден: большая часть воевала на стороне Верховного правителя России А. В. Колчака, но были и подразделения «Красных чехов», где служил Я. Гашек в политуправлении 5-й Армии, в частности в Киеве и позже, редактируя газету «Чехослован» в 1918 году.
Аналогии с мобилизацией, повышением боевого духа и усилением полицейского режима
Во время усиления вертикали власти или прямо говоря — автократии жестокость и нетерпение к инакомыслию обуславливается государственной необходимостью, а подозрительность и стимулы к доносительству объясняются упреждением измены. Это типично происходит перед войной и во время оно. Как и при введении военного положения (которое в 2025 году еще не введено) действуют ограничительные законы с упором на «государственную необходимость», а роль отдельного человека или групп почти не принимается в расчет. На том же принципе работала и австрийская пропагандистская машина, сообщающая о необходимом зле ради высшего добра. В этой связи интересен, потому, что аналогичен нашему времени монолог фельдкурата Каца:
«А как только вспыхнула война, во всех костелах стали молиться за успех нашего оружия, а о боге начали говорить будто о начальнике Генерального штаба, который руководит военными действиями».
Другой второстепенный герой романа полковник Клаус фон Циллергут был чрезвычайно набожен. Он смешивал христианство и мечты о германской гегемонии. Бог должен был помочь отнять имущество и землю у побежденных. Его бесило, когда он читал в газетах, что опять привезли пленных.
— К чему возить сюда пленных? — говорил он. — Перестрелять их всех! Никакой пощады! Плясать среди трупов! А гражданское население Сербии сжечь, все до последнего человека. Детей прикончить штыками.
Он был ничем не хуже немецкого поэта Фирордта, опубликовавшего во время войны стихи, в которых призывал Германию воспылать ненавистью к миллионам французских дьяволов и хладнокровно убивать их:
Пусть выше гор, до самых облаков
Людские кости и дымящееся мясо громоздятся…
Аналогии видятся в том, что среди радикально настроенных граждан и сегодня немало тех, кто непримиримо относится к оппонентам.
Согласно тексту Гашека, ситуация с мобилизацией развивалась в Австро-Венгрии по тем же лекалам, что в России в сентябре 2022 года. Врачебные комиссии (там, где они были) работали по принципу «доктора Грюнштейна» и иже с ним из Праги:
-Сколько человек вызвано на комиссию?
-550.
— А сколько мы должны отправить на фронт?
-550.
— Пригласите призывников!
На страницах романа Гашек сообщает: «В эту великую эпоху врачи из кожи вон лезли, чтобы изгнать из симулянтов беса саботажа и вернуть их в лоно армии» — чем не аналогия с настоящим временем?
Полицейская активность сродни произволу
Полицейская активность после убийства Г. Принципом эрцгерцога Франца Фердинанда значительно усилилась. Карательно-полицейско-судебный аппарат всегда усиливается в государствах, ожидающих экономического и политического краха. По сей аналогии и в России настоящего времени стали «мести» всех, кто хоть как-то нелицеприятно и критично высказывался по отношению к власти или ее военных решениях. В разделах «Швейк перед судебными врачами», «Швейк — симулянт», «Швейка выгоняют из сумасшедшего дома», «Швейк в полицейском управлении на Сальмовой улице», «Швейк идет на войну» и других, много примеров по теме.
Поводом к аресту являлись не только недоказанные обвинения, но даже однократный рапорт полицейского (в том числе из тайной полиции) о подслушанном разговоре — все то, что в наше время «расцвело пышным цветом»; частные мнения, в том числе подсмотренные на дисплеях сотовых телефонах в метро, а тем более в социальных сетях, мессенджерах или электронной переписке, стали corpus delicti (вещественными доказательствами). А с определением доказательной триады, традиционной в уголовном праве — «время, место, способ» — в цифровой век проблем не будет. Примерно тоже касается возможностей быстро установить IP адрес компьютера и (или) ваши локации — по IMEI (идентификатору) сотового телефона и SIM. Говорить на остросоциальные темы стало опасно. Писать — тоже. Инакомыслие, а иначе — желание объективно и разносторонне задумываться о происходящем — возведено в степень измены родине. Это еще одна аналогия с описываемыми Гашеком событиями вековой давности.
Вот как пишет автор (диалог агента тайной полиции Бретшнайдера и неизвестного — в ресторации):
— Вы это читали?
— Не читал.
— Знаете об этом?
— Не знаю.
— А знаете, что случилось?
— Не знаю и знать не желаю.
— Я думаю, вам было бы это интересно.
— С какой стати это должно быть мне интересно? Я выкурю сигарету, выпью несколько стаканчиков вина и поужинаю. А газет я не читаю. Газеты врут. Зачем мне самого себя расстраивать?
— То есть вас не интересует убийство в Сараево?
— Меня вообще не интересуют никакие убийства, будь то в Праге, в Вене, в Сараево или в Лондоне. На это есть власти, суды и полиция. А если где-то кого-то убили, то так ему и надо: не будь дураком и не давай себя убить.
Это были его последние слова.
-Вы арестованы! — сказало чиновничье рыло.
С тех он только повторял через каждые пять минут: — Я невиновен! Я невиновен! С этими словами он вошёл в полицейское управление, эти слова он повторял по дороге в пражский уголовный суд, с этими словами он войдет в свою тюремную камеру.
Или другой пример — приятель Швейка, трактирщик Паливец был арестован Бретшнайдером только за то, что на вопрос ответил: «да, я снял портрет государя императора со стены, так как мухи на него гадили. Еще кто-нибудь сделает замечание…».
Все это не смешные, а реальные истории (согласно тексту Гашека, трактирщик Паливец был осужден на 10 лет и пережил войну в заключении). И если со вниманием изучить правовое поле в современной России, то и тут можно наблюдать аналогии. За оскорбление президента несколько лет назад введена административная ответственность. При этом под оскорблением можно понимать широкие определения и ситуации, а также развернуть действующую статью КоАП РФ в расширенный «состав» — при достаточных основаниях по другим сопутствующим статьям — вплоть до уголовного преследования. Как справедливо замечал в романе Ярослав Гашек: «никого и никогда не интересовала жизнь невинного человека; Иисус Христос тоже был невиновен, а его все же распяли…». К сожалению, для многих это и сегодня «запах времени».
Рефлексия в социальных стратах
Рефлексия в обществе (есть исключения), пораженном патриотической пропагандой, также была предсказуема и в книге о бравом солдате Швейке отражена ярко. Детектив Бретшнайдер из тайной полиции (на протяжении трех глав пытающийся навредить Швейку) докладывает своему начальнику: «я послушал на улицах — все так, как пишут в газетах — «священный огонь, горящий внутри». В то же время, в ответ на манифест о объявлении войны кайзером Францом Иосифом I, были популярными демонстрации воодушевленных граждан, с поддержкой отправляющихся на фронт, с лозунгами «Боже, покарай Англию», «смерть Сербии», сбором еды для отправляющихся на фронт, и плакатами «День, когда подохнет с голоду коварная Россия, будет днем освобождения для всей нашей монархии». Все это создавало иллюзию полной поддержки армии и с определенными допусками можно считать аналогией сегодня.
На самом деле — и это хорошо показал Гашек, мобилизованные солдаты подразделений особенно чешской армии были неоднородны по своим взглядам. Солдаты, призванные по мобилизации против воли, попадали в ситуацию пассивной агрессии, то есть косвенно проявляли негативные эмоции. Гашек описал в романе случаи сдачи в плен целыми подразделениями, включая два батальона 28-го Богемского «пражского» полка со знаменами и оружием 5–8 апреля 1915 года. Сегодня это описание историки позиционируют как легенду. Тем не менее 11 апреля полк был расформирована за предательство интересов монархии. На эту тему в романе много авторских рассуждений. К примеру, на вокзале в Таборе, в диалоге Швейка со стариком:
Старик: будьте умнее и долго на фронте не задерживайтесь, мы же — чехи!
Швейк: «конечно, кому же неохота посмотреть чужие земли, да еще бесплатно».
Любопытный термин «пассивная агрессия» придумал американский психиатр Уильям Меннингер во времена Второй мировой войны. Наблюдая за солдатами, Меннингер отметил необычную реакцию на неприятные им приказы командования. Военнослужащие не выказывали открытого протеста из-за статуса, но всячески уклонялись от поручений и работали неэффективно, скрывая в формате саботажа или демонстрируя недовольство. Примерно так же скрывает свое истинное лицо чиновник, вынужденный работать в авторитарном государстве.
По результатам исследования Меннингера 1944 года, в ответ на раздражитель человек в определенной ситуации и с характерными паттернами поведения реагирует сарказмом или уходит, громко хлопнув дверью. Может показаться, что сие поведение лучше открытой агрессии, но на деле пассивное проявление негатива как скрытая психической реакция, приносит дискомфорт не только окружающим, но и самому человеку. Пассивно-агрессивные люди не могут открыто выражать гнев и раздражение, объяснять поступки, что приводит к отчуждению, аффективному расстройству настроения в тяжелой форме (депрессии) и социопатии.
В подтверждении этой гипотезы приведем убедительные слова Й. Швейка, сказанные военным чиновникам еще до объявления войны: «если теперь что-то [война] случится, пойду добровольцем и буду служить государю императору до последней капли крови».
Это еще одна аналогия, связанная с военным временем бравого солдата Швейка и настоящими событиями, среди последствий которых у комбатантов (ветеранов боевых действий) все чаще диагностируют синдром ПТСР, то есть отклонения (девиацию) психических реакций на раздражители.
Превышение служебных полномочий на войне и в авторитарном государстве тоже не редкость, поскольку не остракируются, а формально поощряются системой. Бывший комендант Перемышля генерал Финк любил полевые суды и достиг в них почти совершенства, его гордостью было то, что одного из приговоренных к смерти солдат был повешен через три минуты после оглашения приговора.
Интересны и размышления Гашека об «интендантских успехах» снабженцев армии. Вот как он характеризует сферу, в которой при желании можно встретить аналогии с сегодняшним днем, как встречал их я на командной должности в 1999–2000 годах во Второй чеченской кампании (со статусом КТО).
«Вообще все в армии уже воняет гнилью, — сказал вольноопределяющийся, укрываясь одеялом. — Массы пока еще не проспались. Выпучив глаза, они идут на фронт, чтобы из них сделали там лапшу; а попадет в кого-нибудь пуля, он только шепнет: «Мамочка», — и все. Ныне героев нет, а есть убойный скот и мясники в генеральных штабах. Погодите, дождутся они бунта. Ну и будет же потасовка! Да здравствует армия! Спокойной ночи!»
Вопросы окормления душ
Очередная аналогия времени связана с религиозным диспутом.
С началом активных боевых действий в СВО усилилось внимание к окормлению военной паствы. В ряде СМИ можно прочесть, как воодушевленные священники еду в зону боевых действий для поддержки военнослужащих и свершению таинств. При этом паллиативом замалчиваются два проблемных вопроса. Во-первых, не рекламируется, что священники не только едут на собранные паствой средства, но и сами собирают средства при отпускании таинств непосредственно в зоне. Утверждать размер сумм без фактов нельзя, но с учетом создавшейся очереди в такие поездки, предполагать материальный интерес вполне можно.
Во-вторых, кроме православных военнослужащих в воюющей армии много приверженцев иных конфессий — армия многонациональна, как и население страны, но не всем «достаются» духовные пастыри. Только христоцентричных деноминаций в мире — 264. А протестантских пасторов в зоне боевых действий нет совсем, и мулл — не много.
Гашек пишет о расцвете и востребованности фельдкуратов (полевых священников) по сей теме так:
— Дорогой коллега, — ответил Кац, снисходительно похлопав его по спине, — пока государство признает, что солдаты, идущие умирать, нуждаются в благословении божьем, должность фельдкурата является. прилично оплачиваемым и не слишком утомительным занятием. Мне это больше по душе, чем бегать по плацу и ходить на маневры. Раньше я получал приказы от начальства, а теперь делаю что хочу. Я являюсь представителем того, кто не существует, и сам играю роль бога. Не захочу кому-нибудь отпустить грехи — и не отпущу, хотя бы меня на коленях просили. Впрочем, таких нашлось бы чертовски мало.
Выбор главного героя и отношения
Писатель намеренно выводит Йозефа Швейка в роль слабоумного, «идиота» и даже бравирует этим на протяжении всех глав. Что вовсе не принижает ни автора, ни героя. Более того, уверенные и убежденные в своей правоте люди обосновано пользуются таким приемом условной провокации. Это литературный прием и даже гражданская позиция трикстера (психологический термин, недавно вновь актуализированный А. Г. Асмоловым, доктором псих. наук), на манер «Ивана-дурака», на манер «юродивого» странствующего философа В. С. Сковороды и многих других реальных и вымышленных героев своего времени. В этом смысле роман Я. Гашека или Ярды — как его называли близкие и друзья, вполне похож на исторический роман советского времени, где главными героями, носителями афористичной мудрости становились простые люди, выходцы из народа, и противопоставлялись аристократам да тиранам. Но, конечно с многими отличительными особенностями.
Кстати, очень показательно отношение к роману со стороны разных, в том числе статусных читателей и во все времена; это непреходящее разделение в отношениях (позициях) делает «Приключения бравого солдата Швейка во время мировой войны» — классикой жанра. Даже не акцентируя внимания на том, что роман отчасти автобиографичен, в наше турбулентное время Швейк и Гашек «живы» и до сих пор являются маркером, тестом — лакмусовой бумагой.
Как правило (проверьте, ежели хотите) чиновники и управленцы всех мастей крайне не любят «бравого солдата» и его автора, не популяризируют их, считая, по-разному, но в соответствии с своими мотивами и статусом — вымышленным, анархичным, глупым и никчемным, неблагонадежным (склонным к предательству и измене), а прямо говоря — опасным для управления и власти. Швейк пояснял сей феномен так. Наш обер-лейтенант собирал нас и говорил: «Дисциплина, болваны, необходима; не будь дисциплины, вы бы как обезьяны по деревьям лазили; служба из вас, дураки безмозглые, людей сделает. Вообразите себе, скажем, сквер на Карловой площади. И на каждом дереве сидит по солдату абсолютно без всякой дисциплины. Это меня ужасно пугает».
«Иван-дурак» или трикстер в образе Швейка действительно опасен для власти, ибо как социальное зеркало показывает ее неприглядные стороны и общественные язвы. Да еще с юмором. То, что именно должен желать хороший журналист, если бы журналистика в России (есть исключения) не была бы кастрированной.
При этом упрекнуть Швейка в честности фактически нельзя. Он откровенно докладывает в разных эпизодах фельдкурату Кацу, поручику Лукашу и другим начальникам события прямо, не опасаясь наказания или последствий: «а еще ваша кошка сожрала вашу канарейку» — я хотел их познакомить, но кошка откусила канарейке голову и так жрала, что даже с перьями. Или: «как было приказано, я сделал все, что только сумел прочесть в глазах дамы, теперь она спит от этой езды».
Когда Швейку намекают на идиотизм, главный герой не пытается спорить: да, я идиот, из полка отпустили только нас двоих — меня и капитана фон Кауница. Тот с позволения сказать одновременно ковырял пальцем левой руки в левой ноздре, а пальцем правой руки — в правой. Строил нас каждый раз как для церемониального марша и говорил: «солдаты, сегодня ээээ… среда, потому, что завтра, ээ… будет четверг».
На заседании врачебной комиссии Швейка просят сделать пять шагов — он делает 10… Мне, говорит, лишних пары шагов не жалко. В выводах врачебной комиссии читаем: «Нижеподписавшиеся судебные врачи сошлись в определении полной психической отупелости и врожденного кретинизма представшего перед вышеуказанной комиссией Швейка Йозефа». Любопытно, что врачебная комиссия на следующей стадии швейковского анабасиса — в сумасшедшем доме, где «был Наполеон», «много офицеров», «а один даже выдавал себя за святую троицу — чтобы получать три порции сразу», вынесла иное заключение — «слабоумный симулянт».
Интересно не столько выбор Гашеком характерных черт своего героя, сколько причины — зачем он это сделал.
Проекция и перспективы политической сатиры Гашека в турбулентном времени
Конечно, с политизированной точки зрения, если пытаться искать кругом врагов и подвох, нюансы трудно понять, поэтому их не терпят, игнорируют и вместо очевидного нарекают проказой. На самом же деле, Швейк, не лишенный сарказма и юмора, только играет. Если маститый врач просит его сосчитать «Сколько будет, если умножить двенадцать тысяч восемьсот девяносто семь на тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят три?», Йозеф, подумав полминуты отвечает — «729». На это председатель комиссии говорит: «мне достаточно». А Швейк парирует: «Да, мне тоже вполне достаточно».
Главный герой действует как трикстер, он понимает глупость всего происходящего, надувание щек и серьезные лица начальников, врачей или тюремщиков, и только подыгрывает им, сам смеясь в душе. Думаю, так мыслил Ярослав Гашек. И это почти единственная форма условно безопасного протеста против режима. В то время как оппоненты Швейка в силу разных причин не могли и не могут понять его истинного назначения и мотивов, а потому избыточно «упрощают» и действуют шаблонно (предсказуемо). Истинное открывается в романе только в поступках и диалогах Швейка в ситуациях, когда он в безопасности и раскрывается полностью.
На уровне текста Ярда (как называли Ярослава Гашека его друзья и единомышленники) сделал то, что приковывает внимание читателя, заставляет его «глотать» страницу за страницей. Но может быть это не великая литература, как ее понимают искусствоведы. Неоригинальные литературные приемы, банальная композиция, «сотканная» из десятков хронологически вплетенных реальных историй, ходульные диалоги персонажей. Нам ли судить?
Перелистываешь страницу за страницей, и ощущаешь любовь и понимание, которое испытывает автор к своим героям. Юмор — еще одна из ценностей романа Гашека. Швейк, все понимая, троллит власть, издевается над ее глупостью, ангажированностью и несовершенством: «– Господа! Да здравствует император Франц-Иосиф І!». И если Йозефа Швейка кто-то, используя собственные аргументы, мог бы назвать «идиотом», то претензий к умственным способностям писателя Ярослава Гашека не было.
Загадка сия отчасти разъясняется тем, что Гашек осознанно выбрал политическую сатиру как «красную нить» в сюжетах романа. Швейк постоянно рассказывает разные истории, каждая из которых тянет на отдельную юмореску.
Во-первых, юмор — то самое, с помощью чего можно отчасти безопасно и эффективно бороться как с политическим строем, так и с цензурой, и в целом с чиновниками. Надо лишь показывать в неприглядном свете пороки власти, обесценивать ее по фактам, смешно рассказывать о сложном и страшном, на манер того, как делал в начале 90-х майор милиции Андрей Кивинов (Пименов) в серии сценариев и рассказов «Улицы разбитых фонарей» (и др.) — о буднях оперативников. Рассказать о страшном — смешно — это профессионализм высокого свойства. И Гашек подал такой пример.
Во-вторых, вспомним собственную биографию писателя — по убеждениям он тяготел к анархизму и в довоенное время был одним из создателей политической партии в Праге. Авторский подход в области сарказма и юмора как действенный способ неподчинения или сопротивления глупости вполне осознан Гашеком — как доступная модель протеста. Без неопровержимых доказательств, власть почти ничего не может сделать с мягким, ненавязчивым сарказмом ни тогда, ни сейчас; это еще одна аналогия былого и настоящего времени. Смелость — города берет, как и юмор — защищает сознание в трудные времена. С другой стороны, власть своими действиями как во время Гашека, так и теперь, для удобства контроля и управления хочет принудить граждан к единообразию на манер «держи язык за зубами и служи — это самое разлюбезное дело». «Отвечайте только когда вас спрашивают! Понимаете?» Понимаете?
Выводы
Кайзер Австро-Венгерской империи Франц Иосиф изображен в романе как правитель, создавший свою идеальную империю. Примерно, как нынешний президент Путин, о котором пишут, будто он хотел территориально и организационно возродить Советский Союз или хотя бы расширить былое его влияние на другие страны мира. Авторитарные и сильные по военной мощи государства — как люди, им претит статика, им нужны новые границы и сферы влияния. Это макро-принцип политики и экономики. В политике важен баланс силы, система мер и противовесов.
Восток для России образца 2025 года с его патриархальными, а подчас и деспотичными институтами власти, более понятен — с субординацией и жесткими традиционными правилами жизни. Восток для России тоже соперник, но более предсказуемый в сопоставимой системе ценностей с аналогичными претензиями властолюбия, с теми же тоталитарными грехами. Это — кроме актуальной ситуации отсутствия экономического выбора, когда западные демократии отвернулись от нынешнего правителя России, в то время как многие, очень многие чиновники из истеблишмента и элиты России очень желали бы выглядеть перед культурным западом — цивилизованными. Но… условно и традиционно анархичный и свободолюбивый Запад с его цивилизацией и гуманистическими ценностями, во главе которых позиционируют человека (ради которого работает государственная машина, а не наоборот), в понимании многих вождей любезного нашего Отечества, как прошлых, так и нынешних, является главной угрозой для их власти.
Так устанавливается мягкая диктатура, когда обывателям предписывают и под угрозой карательных мер, принятых карманным парламентом, запрещают любые способы вовлеченности в борьбу, что также предполагает молчаливое согласие с диктатом и нарушениями прав человека.
Единственное, что не вполне соответствует аналогии былого и нынешнего времени — те финансовые условия, которыми обеспечены военнослужащие, участвующие в современных военных конфликтах. Теперь материальная мотивация значительно выше и суммы исчисляют миллионами. В то время как рядовой пехотинец Швейк (Ярославу Гашеку в 2016 году присвоили звание ефрейтора австрийской армии), даже в должности денщика или ротного ординарца получал обычную солдатскую «зарплату» с компенсацией полевых выходов.
Но военная служба в «горячих точках» во все времена отличалась «новыми коррупционными возможностями» и превышением полномочий. Как написано в романе Я. Гашека: «Генерал уделял отхожим местам столько внимания, будто от них зависела победа Австро-Венгерской монархии… Генерал-дохлятинка это страшно любил. Дома у него было два денщика. Он выстраивал их перед собой, и они кричали: — Первый-второй, первый-второй. Таких генералов в Австрии было великое множество» и «Такими фактами переполнена была деятельность всей военной администрации, начиная от старшего писаря в какой-нибудь несчастной роте и кончая хомяком в генеральских эполетах, который делал себе запасы на послевоенную зиму. Война требовала храбрости и в краже. Интенданты бросали любвеобильные взгляды друг на друга, как бы желая сказать: «Мы единое тело и единая душа; крадем, товарищи, мошенничаем, братцы, но ничего не поделаешь, против течения не поплывешь! Если ты не возьмешь — возьмет другой, да еще скажет о тебе, что ты не крадешь потому, что уж вдоволь награбил!»
Такова еще одна аналогия времен в теме интендантских возможностей обогащения. С тем лишь уточнением, что в нынешней ситуации люди воюют до тех пор, пока им платят. Убери эту экономическую выгоду — и люди, и дела сразу покажут себя.
Поэтому роман Ярослава Гашека крайне важно перечитывать, переосмыслить, обратить внимание на многие интересные детали именно теперь, чтобы пророчески заглянуть в «завтра» и быть готовым к вызовам времени. С учетом и того, что Гашек не окончил роман 3 января 1923 года.
Существует несколько версий романа под одним и похожими названиями, в которых главный герой Йозеф Швейк сохранен, но второстепенные герои меняются; к примеру, вместо амбициозного кадета Биглера и одиозного, глуповатого лейтенанта Дуба вводится прапорщик Дауэрлинг. За Гашека дописывал его друг Карл Ванек (кстати, выведенный в романе как бывший аптечный торговец из Кралуп, на военной службе старший писарь- фельдфебель, не лишенный адекватности). Не избыточным будет обратить внимание на других значимых персонажей романа — друга Швейка вольноопределяющегося Марека, поручика Лукаша, генерала Финка фон Финкенштейна, приговаривавшего на смертную казнь не именем закона, а словами «я приговариваю вас», фелькурата Каца, обжору Балоуна, телефониста Ходоунского, написавшего проникновенное письмо жене с лейтмотивом «не позорь мою фамилию, а то я вернусь и выпотрошу вас обоих» и многих других. Каждый герой по-своему колоритен, уникален, дитя своего времени, а мастером художественного слова характеры и сюжетная линия хорошо раскрыты.
Поэтому существует насколько текстовых версий продолжений и вариаций «Приключений бравого солдата Швейка во время Мировой войны», в том числе «Бравый солдат Швейк в плену», а также несколько киноверсий романов Гашека и Ванека, смотреть которые одно удовольствие тем интеллектуалам, привычка задумываться о происходящем, размышления и система ценностей которых созвучна мировоззрению Ярослава Гашека — писателя с мировым именем, автора более 1500 журналистских статей, заметок, миниатюр, рассказов, переведенных на десятки мировых языков, в том числе в России, где по условному подобию бравого солдата Швейка в начале Второй мировой войны пропагандистскими способами и с участием послушных власти литераторов пытались создать собственных, но более идеологизированных героев, к примеру, Ивана Чонкина (В. Войнович) или Василия Теркина (А. Твардовский). «Все-таки надо признать, что не все люди такие мерзавцы, как о них можно подумать». С благодарностью за науку говорю Ярославу Гашеку «dreimal hoch» [троекратное ура (нем.)], и думаю, что я не один.
Потому, что литературное наследие Ярослава Гашека даже в России хорошо изучено, нет недостатка в монографиях и научных исследованиях трудов и биографии. Тем не менее аналогии событий столетней давности и настоящего времени, частично раскрытые в статье, претендуют на актуальность и новизну. Во всяком случае заставляют задумываться.