Грэм Харман. Эстетика как первая философия: Левинас и не-человеческое
Центральными проблемами философии Эммануэля Левинаса, как правило, считаются этика и религия. По понятным причинам, такое прочтение кажется очевидным, и, скорее всего, соответствует интерпретации самого философа. Но при более тщательном изучении, узко-этическая рецепция его мыслей представляется односторонней. Ведь и для самого Левинаса выход за пределы гнетущей тотальности существования возможен не только через этику, а тремя различными путями.
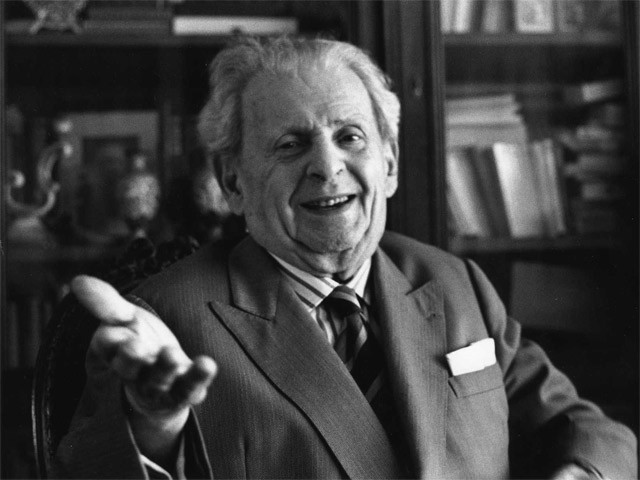
Бесконечность Другого — это единственное, что Левинас считает способным противостоять тотальности. Здесь мы находим совокупность его этических и религиозных представлений (которые не прописаны детально), именно на них и сосредотачиваются его читатели. Но, во-вторых, система объектов ограничена им снизу, так же как и сверху, через понятие наслаждения. Таким образом, мы также можем получить прямой доступ к контурам вещей, игнорируя тёмную бесконечность, которая простирается за ними: мы не просто используем молотки и резцы, но греемся в мерцающих качествах, которые они излучают. Наконец, третий аспект, который игнорируют все, кроме Альфонсо Лингиса [1], это намёки Левинаса на новую ключевую роль индивидуальной субстанции. Отдельные камни, стулья и океаны для нас не являются бесконечными Другими, так как они определяются через то, что они могут или не могут делать. По той же причине конкретные вещи — не бессвязные звуки или случайное дуновение ветра, как Левинас неверно предполагает в своих размышлениях о первоматерии. Именно идентичность единичной вещи является тем, что лучше всего сопротивляется уравнивающей силе тотальности. Мир наполнен конкретными реальностями, которые не могут быть полностью исчерпаны в простом манипулировании ими, погружении в их поверхностные качества или даже в их разрушении.
Мы должны согласиться с сетованиями Левинаса на войну существований, которая сплавляет их в единое бесшовное целое. Эта мрачная тотальность должна быть заменена не однобокими теориями о божках или о нашем сиротливом существовании вне мира, не туманным кружением стихий, но великим маскарадом особых сущностей, которые частично сокрыты друг от друга, даже когда противостоят друг другу. Но тогда этика не может быть первой философией. Все вещи находятся в бесконечных глубинах, и все вещи выбрасываются в наслаждение, на поверхность видимости мира. Оба момента чередуются, что обусловлено жизнью отдельных субстанций, которые никогда полностью не вовлечены в войну всех против всех. И эта драма лучше всего описывается известным термином «эстетика». Эстетика — это первая философия. Это фраза относится не только к более глубокому прочтению Левинаса, но к исследовательской программе современной философии как целого. Такой эстетический подход к Левинасу наиболее убедителен, если его применять к ранним феноменологическим работам: «От существования к существующему», «Время и другой» и особенно «Реальность и её тень». Гораздо более интересно применить его к двум главным книгам Левинаса, где такое прочтение гораздо менее очевидно. Пока я сделал это для «Тотальности и бесконечного» [2], на следующих страницах я сосредоточусь на книге «Инобытие, или по ту сторону сущности».
1. Тотальность и её распад
У каждой философии есть стратегический враг, соперничающее видение реальности, которое она постоянно пытается опровергнуть или изменить. Этого соперника нельзя искать в философских доктринах прошлого, вероятно, философии даже придётся взять ответственность за то, чтобы впервые назвать своего оппонента. Можно судить о глубине философии по важности её врага, ведь исследователя, сражающегося с полиомелитом, мы оцениваем выше, чем садиста, давящего жуков на тротуаре. Левинас выбирает сильного противника, которого обычно называют «тотальность», но ещё и «система» или «война». Название «Тотальность и бесконечное» показывает важность врага, которого он выбрал для своей первой большой работы, но и «Инобытие, или по ту сторону сущности» можно рассматривать как выпад в сторону того же противника. Для Левинаса существование — это система, тотальность, из которой невозможно сбежать. Война — это его название для философии отношений, в которой каждая вещь обретает реальность только через взаимодействие или сражение с другими. Проблема не только в «войне», в значении военных действий, так как даже «мир» повинен в тотальности: «рациональный мир… это расчёт, размышление и политика. Борьба всех против всех становится… взаимным ограничением и определением, как сути каждого» [3]. Убеждение, что значение всегда создаётся благодаря паутине взаимодействий, взаимному опутыванию, переплетению текста и контекста, смазыванию границ между одним и другим, слишком долго считалась в философии высокоморальным. Такое видение обычно представляется более открытым, разнообразным, толерантным и мирным, чем так называемое «реакционное» полагание независимых вещей. Вместе с Левинасом я придерживаюсь противоположной точки зрения. Политически окрашенные термины сущность («плохо») и взаимодействие («хорошо») должны быть переопределены, и продолжительное пиршество относительности философии текста должно закончиться. Нет большего империализма, чем философия взаимного определения вещей, выдающая все тайные убежища от системы.
Если этика Левинаса, в противоположность его замыслу, рассматривается изолированно от системы существований, то теряется её философская точность. Она превращается в отвлечённое сострадание — абстрактный перечень известных исторических катастроф. Этика важна для повседневной жизни по многим причинам, но в метафизике Левинаса этика поднимается над повседневностью и ломает тотальность существований в их взаимном определении. Иначе существование оставляет человека «пассивнее, чем самое пассивное звено в
Позже мы вернёмся к аргументации положения, о необходимости существования чего-то, лежащего за пределами причинно-следственных связей. Пока мы должны выступить против попыток Левинаса свести это запредельное к бесформенной монолитности благости. Его суждение, что у Блага нет чтойности (т.е. нет отдельной сущности) предупреждает об этой тенденции. Она становится явной, когда Левинас начинает отождествлять Благо с Единым Плотина, лежащим за пределами особого существования, даже за пределами бытия собой [7]. Хуже того, Левинас отождествляет Благо с бесконечностью [8]. И для Левинаса, в противовес Георгу Кантору, бесконечность это всегда одна бесконечность. Здесь мы находим центральную проблему метафизики Левинаса: он опровергает мировую систему с помощью неправомерной альтернативы. Его Благо не просто за пределами существования, но также он бесконечно, унифицировано и лишено сущности. Я считаю, что Левинас правильно выбрал своего противника, но он слишком самонадеянно определил, что конечность, многообразие и сущность мира всегда принадлежат исключительно войне. В качестве альтернативы можно сказать, что мир состоит из индивидуальных субстанций, ограниченных, множественных, но имеющих внутренний стержень, который сохраняется вопреки изменениям на поверхности вещей, так можно частично освободить индивидуальные субстанции от «войны». Тогда они всё ещё могут сталкиваться друг с другом в близости. Это авторский концепт Левинаса, который он ошибочно относит только к человеческому опыту. О близости будет сказано ниже.
Уйму проблем доставляет Левинасу его оценка поверхности мира. Теория наслаждения создана им для того, чтобы противостоять хайдеггеровскому анализу инструментальности. В инструментальной системе каждый объект «подключён» к другому, тот ещё к одному; индивидуальные существования исчезают по окончанию их использования, именно которое, в конечном итоге, и есть возможность вот-бытия (Dasein) для существования. Так как мир изрешечен замкнутыми конечностями, то модель очевидно односторонняя, что частично признавал и сам Хайдеггер. Мы не сталкиваемся с миром, как системой, но всегда окружены бесчисленными конкретными вещами. Наслаждение же «нельзя свести к тому, что можно схватить для дальнейшего поглощения» [9], оно заключается не в поглощении, а в завороженности.
Это априорное «дыхание» любых интенциональных отношений [10]. Сфера здравого смысла ограничивается «воздействиями, ведущим к страданию или к наслаждению». Эта «бессмыслица», предшествующая любому «смыслу», журчание воды и шипение пара, которые просачиваются сквозь статичные идеальные объекты, которые, по мнению Гуссерля, населяют наши представления [11]. Когда мы наслаждаемся, в нашем опыте нет никаких скрытых значений, наслаждение полностью не-означающее, с помощью этой силы Левинас взламывает Хайдеггера. Он говорит своему великому немецкому предшественнику, что «явление сущностей не может быть отделено от их связей, как элементов в структуре, которая их выстраивает, и в которой они осуществляются…» [12]. Напротив, Левинас требует «сборки не-означающих элементов в структуру», которая создаёт «возможности или препятствия» [13].
Точно так же как Левинас раздувает бесконечность Другого до монолитной рокочущей громады Благости, он растягивает и область наслаждения до мерцающего хаоса бессмыслицы. Неверно, что наслаждение абсолютно не-означающее. Когда мы едим яблоко или гладим котёнка, мы нежимся в их журчащей поверхности, которая превосходит все значения. Но значение не может отсутствовать, иначе все виды наслаждения признаются эквивалентными, наслаждение становится бесформенным потоком элементов. Но у пронзительной кислоты яблока есть совершенно определённая структура, как и у мягкости меха животного. Коротко говоря, Левинас слишком дорого платит за свою атаку на мировую систему сущностей. Его этическая доктрина разрушает монолитность вещей с помощью недоступного божества, но за это приходится расплачиваться превращением Блага в Единое. Его теория значений противостоит интертекстуальности, пожирающей особенности и делающей их невидимыми, но цена такого противостояния — утрата основы всех определённых структур. Но такие траты не необходимы. Мы можем освободить вещи от полного взаимодействия, если сохраним множественность скрытых существований и наполним чувственно-воспринимаемую реальность отдельными индивидуальностями. Скорее основа философии Левинаса это индивидуальная субстанция, чем унифицированное Благо или бесформенный призрачный туман. Субстанция, которая взаимодействует с соседями на расстоянии, являемая ей поверхность только отсылает к глубинам, из которых она проистекает. Мы никогда полностью не встречаемся с Другим, но также никогда не взаимодействуем лишь поверхностно. На самом деле мы находим друг друга в состоянии искренности.
Мир «искренности» буквально ненавидим комментаторами Левинаса поколения Деррида, которые находят существование этого мира оскорбительным для их постоянных демаршей по поводу смерти Бога и морали. Тем не менее, искренность это самое важное понятие, которое когда-либо создавал Левинас, если оно отсылает к конечным сущностям, которые с самого начала заслоняют любую предполагаемую систему. На самом деле искренность это не что иное, как имя любой реальности: всё есть то, что оно есть, оно не исчезает во время взаимодействия, каждая часть реальности остаётся сама собой, откровенно являясь тем, что она есть. Это верно для всех трёх тем его философии: этики, первоматерии и субстанции. В противостоянии с другими людьми я не свожу их к
2. Искренность языка
Эта искренность, эта близость без слияния, центральный инсайт творчества Левинаса. Вскоре он переносит это и в сферу языка. Современная философия слишком долго была полностью поглощена лингвистическим поворотом, что справедливо не только относительно аналитической философии, но также применимо к наследникам феноменологии. Эта тенденция вызывает сожаление по двум причинам. Во-первых,
Наиболее известным замечанием Левинаса о языке является разделение на «сказанное» и «говорение», и то и другое случается в одно и то же время. Поскольку сказанное — это буквенное сообщение, записанное в простом виде, а говорение — это указывающее за пределы буквенного фасада; речь, как процесс, схватывает то, о чём говорится, и в то же время подтверждает его. Также «говорение высказывает и тематизирует сказанное», что «то, что это означает это для другого… это должно быть определено как рождённое словами в говорении. Это обозначение для другого встречается в близости. Близость различима в каждых вторых отношениях…» [17]. Близость это второе название для искренности или самости (illeity). Когда мы используем письменный язык (сказанное), это немедленно обращает наше внимание на существование того, о чём говорится, говорение переносит в искренние отношения с тем, что лежит за пределами поверхности мира. Но также надо заметить, что даже наше отношение к сказанному показывает определённый тип искренности. Даже если я бегло просматриваю стихотворение, которое не затрагивает меня глубоко, на самом деле я буду гораздо больше занят этим поверхностным чтением, чем разглядыванием мотоциклов или ущербной луны. Моя жизнь включает в себя то, что я воспринимаю сказанное со всей серьёзностью. Искренность везде: на поверхности, в глубине и в субстанции, которая их пронизывает.
3. Распад души
Мы увидели, что искренность принимает три формы. Наше внимание искренне поглощено и этическим отношением к Другому, и наслаждением от хлеба или ветра, что предоставляет нашим жизням цель. Мы сливаемся друг с другом и миром в единый световой луч, но остаёмся на том же месте, где стояли, наполненные сущностью того, что лежит перед нами. Индивидуальная субстанция объединяет бесконечную глубину и поверхность, и они обе искренне занимают меня — я околдован скрытой силой леса или душой возлюбленной под бесчисленными масками. Для Левинаса, искренность принадлежит исключительно к тому, что мы знаем, как человеческое сознание. Как он замечает «объекты… слишком плотные для своей кожи. Пронизывающая все отношения, эта индивидуальность, в отличие от сущности, может быть обозначена как tode ti (вот-что)» [18]. Другими словами, индивидуальные вещи с их сущностью захваченны системой отношений и чтойностей, и только люди способны выйти из этой системы. «Личность это несравненная уникальность… В истории философии, во время нескольких озарений, было открыто, что эта субъективность… порывает с сущностью» [19].
Как и любой феноменолог, Левинас колеблется между приятием субъективности и отказом от
Помимо искренности и самости (illeity), близость это ключевое понятие для столкновения без слияния. Близость «забывает о взаимности, как любовь, которая не заботится о том, чтобы быть разделённой» [24]. Поэтому, близость это не просто не сплавляющий контакт, но ассиметричный контакт. Моя очарованность другим не подразумевает того, что он должен быть очарован мной; это может волновать меня, но никак не касается искренности. Близость затрагивает не только поверхность «приближение это не представление, но суть детеоретизированной интенции…» [25]. Но эта теория близости относится только к человеческому восприятию. Что напоминает об одной из забытых центральных проблем философии: коммуникации. В мире, где вещи превосходят любой доступ, который мы можем получить к ним, возникает вопрос: как мы получаем доступ к вещам, если это не прямой доступ. Это затрагивает традиционную проблему окказионализма, которому Левинас местами сочувствует (а именно, в своей теории времени, как побега из гипостазиса). Для окказионализма две субстанции никогда не соприкасаются напрямую, они могут взаимодействовать только через Бога. Несмотря на всеобъемлющее присутствие Бога в философии Левинаса, он не решает задачу коммуникации. Напротив, Левинас считает, что именно близость является местом, где осуществляется коммуникация. Это вид до-соприкосновения или до-отношения, из которого берут начало все отношения. Проблема коммуникации абсолютно прозрачна у Левинаса. Вторя старшим немецким предшественникам, Левинас спрашивает: «Может ли открытость быть чем-то иным, чем подглядыванием за сущностям через двери или окна?» [26]. Искренность, самость, близость созданы для того, чтобы дать возможность вступить в контакт без дверей или окон: возможность сообщения без полного слияния. И для Левинаса эта коммуникация всегда ассиметричная, пока вещи близки мне, но я не близок им.
Левинас использует термин «распад» для этих ассиметричных отношений, где я искренне очарован другим, не будучи уверен, что это взаимно. Сознание настолько расколото в самом себе, что мы можем говорить об «атомной метафизике». Пассивность говорения, в которой присутствует другой, но присутствует не полностью, «сходно с распадом атома, открывающим глубину сосредоточения его ядерной структуры… Атом не открывает этой глубины до тех пор, пока остаётся защищённым сплошной коркой, формой…». Если ядро мира это интенциональные отношения между мной и феноменом, куда мы проникли с помощью рентгеновских лучей, это ядро уже не герметично запечатанный вакуум. Поэтому «воодушевление»,
Коммуникация, для Левинаса, это ответственность, и «у ответственности… есть только один путь, от меня к другому. Говорение обнажает обязательства, которые никто не может исполнить за меня. Я уникален» [31]. Это ключ к значению понятия «замена», которое Левинас называет движущей силой всей книги. Будучи открытым другому, как незаменимая уникальность, я
В этом затруднительном положении, спасение бриллиантов и рептилий для философии является вопросом нашей ответственности, и Левинас совершенно не заинтересован в том, чтобы помогать нам. Этика не может быть первой философией, пока этика безосновательно делит мир на полноценных людей и роботоподобных пешек причинности, способом немногим отличающимся от декартовского. Первая философия нуждается во всеобщей теории индивидуальной субстанции и её близости, потому что только в близости может случиться коммуникация. Это условие необходимо для всех видов коммуникации, в том числе и для коммуникации между неодушевлёнными предметами. Приводы в машине растворяются друг в друге, не более чем люди растворяются в армии. Если один привод влияет на другой, то это случается в машине через определённую форму искренности. Распад материи, который Левинас считает уникальным явлением, которому причастен только человек, является общей характеристикой для реальности, как целого. Итак, первая философия должна быть найдена не в этике, но в общей теории субстанции и причинности. Я полагаю, что «эстетика» будет гораздо более подходящим названием для этой дисциплины, чем этика.
4. Эстетика
Хайдеггер использует термин «мир» для системы взаимоотносящихся сущностей. В этом смысле, «Инобытие, или по другую сторону сущности» — попытка сбежать из мира, с помощью сверхсловесного контакта между двумя фрагментами реальности. Для Левинаса путём для побега, кроме этики, является искусство: «каждое произведение искусства это… экзотика без мира…» [35]. Но здесь есть проблема. Произведения искусства появляются в наших жизнях только время от времени. Этот вид близости, распад человеческого субъекта, лишь непостоянное дитя. Эксплицитное использование языка более надёжный способ разделения, чем искусство, и искренность для него является настолько общим моментом, что мы должны назвать её константной. Мы искренни и просто в том, что существуем, но будет слишком жеманно утверждать, что наша жизнь является нашим творением. Ту же неопределённость мы находим в понятии «искренность». В некотором смысле искренность относится к любому сознанию, и тогда мы можем найти её и в циничных технократичных построениях, и в «критических» академических учениях, которые порабощают нас низким целеполаганием. Но есть и другое значение термина «искренность», которое используется только как редкий комплимент для того, что чарует или восхищает. Другими словами, философия должна признать два разных типа искренности, близости, самости или распада, постоянный и прерывистый.
Работы Левинаса явно принадлежат к феноменологической школе, основанной Гуссерлем и разработанной Хайдеггером. Исходная точка философии Гуссерля — вынести за скобки реальное существование мира и сосредоточиться лишь на том, как он является сознанию. Гуссерлевская изощрённая оборона от обвинений в идеализме, эквивалентна имплицитной форме «корреляционизма», выделенного Мейясу. Хотя утверждение, что человек и мир всегда являются вместе, может спасти Гуссерля от абсолютного идеализма Беркли, но оно не оставляет для реальности никакой возможности существования вне человеческого восприятия. Тем не менее, позиция Гуссерля, что философия должна сосредоточиться на одних лишь феноменах, не отменяет значимость его теории: его величайший вклад в философию, понятие интенциональный объект, хоть он и настаивает на том, что реальные объекты вынесены за скобки. Вопреки эмпиризму, мы видим деревья, а не зелёные пятна треугольной формы; мы слышим не звуковые волны и изолированные тоны, но песню. Вполне естественно, что эти объекты являются не как чистые сущности, а как особенные воплощения. Когда я обхожу дерево, или жду, когда сумерки исказят его внешний вид, я вижу новые обличья одного и того же дерева. Интенциональный объект «дерево» остаётся тем же, вопреки этим изменениям, до тех пор, пока я его опознаю, как то же. Но мы всегда осознаём, что интенциональное дерево превосходит то, как оно является в каждый конкретный момент — в нём продолжает действовать глубокий унифицирующий принцип, которому подчиняются все способы явления дерева. В этом смысле, всегда существует распад между качествами дерева и его собирающей воедино идеальной глубиной.
Но такой тип распада относительно слаб. Чаще всего мы отождествляем деревья с присущими им качествами, даже если мы замечаем, что эти качества слегка меняются со временем или в зависимости от точки зрения наблюдателя. Это происходит, потому что дерево мыслится полностью представленным в сознании. Оно не кажется у-скользающим или полностью отсутствующим, потому что я уже осознал его, как присутствующее, просто принимая его всерьёз. Разные «наброски» дерева не воспринимаются так, словно они скрывают бесконечную глубину отсутствия, но как некие бесполезные инкрустации информации в том, что видится представленным полностью. Распад в нашем будничном восприятии — слабая форма отчуждения, заметная только с помощью кропотливого феноменологического анализа. Это обычное положение вещей в нашей жизни. Но дело принимает другой оборот, если мы учитываем и более глубокие типы распада, в этом усиленном делении, нам становится абсолютно ясно, что вещь, к которой мы относимся, скрывается в глубине, а не представлена нам полностью. Обычно нам кажется, что дерево, преподносит нам свою сущность, но в искренности мы воспринимаем его как намёк (allud) на дерево, которое превосходит всё, что мы можем о нём помыслить. Есть множество способов, как могут являться такие аллюзии (allusion) или очарования (allure), даже в простом примере с деревом. Следуя за Хайдеггером, мы можем процитировать поэзию. Рассмотрим следующие строчки возможного стихотворения Георга Тракля, которое он никогда не писал:
Пока разрушенный город сжирает тонущую гитару,
Монашка оплакивает дерево.
Это сестра или волк,
Мак хранит молчание.
Рокот.
Только не это! [36]
Если мы видим монашку, оплакивающую дерево, вероятно (хотя трудно представимо), что мы не получим никакого эстетического опыта. Мы можем оставаться на позиции Гуссерлевского анализа, обходя девушку и дерево, описывая разные их наброски, чтобы таким образом получить интуицию идеальной сущности двух объектов. Но когда мы читаем стихотворение, даже если мы невосприимчивые и невнимательные читатели, происходит что-то ещё. Слово «дерево» во второй строчке становится тем, что Хайдеггер называет «зовом» или «призывом» дерева. В нашем сознании это представлено, как некий туманный образ, который заставляет предположить или намекает на тёмную глубину, которая превышает наши возможные интенциональные отношения с объектом. Этот случай распада более зловещий, чем описанный выше. Это аллюзия (allusion) на дерево, а не его присутствие, как понимал Гуссерль идеальный принцип объединения способов представления. Дерево становится чарующим (alluring) [37]. Если, также как и Левинас, называть наше восприятие в каждый момент «атомарным», то в случае очарование (allure) — это редкое проникновение запредельных атомных сил, даже если эти силы просто принимают форму аллюзий.
Как учит нас Левинас, центральная проблема метафизики, это взаимодействие сущностей в рамках системы: на самом деле проблема в том, как они снимают систему, и взаимодействуют друг с другом, как независимые реальности через близость, через прикосновение без касания, то есть то, что было обозначено, как аллюзия (allusion) и очарование (allure). Если мы понимаем термин «эстетика» в широком смысле, то становится абсолютно очевидно, почему первая философия это эстетика, а не этика. Этические отношения между людьми это просто частный случай взаимодействия субстанций без прикосновения. Эстетика это первая философия, потому что ключевой проблемой метафизики становится следующее: как индивидуальные субстанции взаимодействуют друг с другом в своей близости? Пока эстетику рассматривают в целом принадлежащей лишь людям, или иногда включают любимых животных, например, поющих птиц или горбатого кита с его траурным плачем. Если мы последуем за Левинасом, неодушевлённые объекты будут исключены из мира очарования (allure), камни и млечный путь окажутся просто слепыми звеньями в
Примечания
[1] “A Phenomenology of Substances” American Catholic Philosophical Quarterly 71, no 4 (1998).
[2] В лекции “Bread, Tobacco and Silk: Levinas on Individual Substance”, прочитанной в Софии (Болгария), 27 октября 2006 года. Публикация ожидается (Прим.автора).
[3] Levinas, Oherwise Than Being. Translated by Alphonso Lingis. (Pittsburgh: Duquesne Univ. Press, 2004). Здесь и далее цитаты из книги переведены мной (прим.переводчика).
[4] ibid., p. 79.
[5] ibid., p. 182.
[6] ibid., p. xlviii.
[7] ibid., p. 95.
[8] ibid., p. 147.
[9] ibid., p. 73.
[10] ibid., p. 49.
[11] ibid., p. 64.
[12] ibid., p. 133.
[13] ibid. Emphasis added.
[14] ibid., p. 89.
[15] ibid., p. 73.
[16] ibid., p. 12. Emphasis added.
[17] ibid., p. 46. Emphasis added.
[18] ibid., p. 106.
[19] ibid., p. 8. Emphasis added.
[20] ibid., p. 131. Emphasis added.
[21] Ibid.
[22] ibid., p. 57.
[23] Meillassoux, Après la finitude. (Paris: Seuil, 2006).
[24] Levinas, Oherwise Than Being, p. 82.
[25] ibid., p. 97.
[26] ibid., pp. 178-179.
[27] Ibid., p. 141.
[28] ibid., p. 100.
[29] ibid.
[30] ibid., p. 16.
[31] ibid., pp. 138-139.
[32] Ibid., p. 115.
[33] ibid., p.139.
[34] ibid., p.140.
[35] ibid., p. 41.
[36] Стихи принадлежат мне (прим.автора).
[37] Теория очарования (allure) описана в моей книге «Guerilla Metaphysics» (Chicago: Open Court, 2005) и в моей статье «On Vicarious Causation» в журнале «Collapse» (Oxford: Urbanomic, Volume II, 2007) (прим.автора).
Статья «О замещающей причинности» («On Vicarious Causation») переведена А. Марковым и опубликована в журнале «Новое литературное обозрение» №114 (2/2012). (прим.переводчика).
Перевод выполнен по http://dar.aucegypt.edu/handle/10526/3073. Originally published in the Summer/Fall 2007 issues of Naked Punch.
Перевод выполнен А. Бурдиной.
