ПОСЛЕДНИЙ СОБИРАТЕЛЬ

«Ты не имел смысла жизни, — обращается герой повести «Котлован» Вощев к палому листу, кладя его в «тайное отделение мешка, где он сберегал всякие предметы несчастья и безвестности», — лежи здесь, я узнаю, за что ты жил и погиб. Раз ты никому не нужен и валяешься среди всего мира, то я тебя буду хранить и помнить». Что это за листочек? Откуда он упал? Может быть с головы Розанова? Сказать труднее, чем понять. Впрочем, лишь в момент отпада виден исток, место произрастания. Надлом высвобождает истину первосущего, и отпавший становиться вещью. Как верно замечает Михаил Эпштейн: «В древнерусском языке слово “вещь» исконно значило «духовное дело», «поступок», «свершение», «событие», «слово». Это вторение словам Иоанна «И слово плоть бысть», в этом смысле всё – вещь, и принадлежит она только Ему. Наделенная божественным первосмыслом, вещь становиться включенной в целостность магнитного поля человеческой жизни и обращается к своему смысловому, онтологическому Центру. «Отпавшая от смысла вещь — разрыв связи с окружающим и самим собой» — пишет Эпштейн, но не добавляет, что и с Ним тоже. Событийное схватывание высвобожденной несокрытости в надломе – восстанавливает связь, очищает сущность от порока распада, делая себя достойным. «…яви человеколюбие Твое… и яко же хочеши, устрой о мне вещь” — в молитвенной надежде ко Христу трепещет Иоанн Дамаскин. Обращение к крупицам земного праха для Платонова (как и для всякого русского человека), есть возвещение самому миру его смысла. Эта негативная телеология, обращение к крупицам материального, ненужного, истоптанной куче мусора – всё это есть символ неподдельности по выражению Секацкого, который считает, что техника имитации и притворства просто совпадает с техникой безопасного пребывания в мире. В тяжелейшей ситуации неразличимости подделок — «детекция лжи представляется неразрешимой в принципе», и только в этом случае по-настоящему неподдельным остается мусор, низкая материя, выброшенный на периферию сущего голый смысл.
Собирательство и коллекционирование есть то, что объединяет литературный и бытовой мир (впрочем, для того же Д.Андреева это было единым пространством, и Раскольников был отделен от Петра Первого лишь запятой). Плюшкин, Вощев, Батай, Вагинов (как и его персонаж из «Козлиной песни») – все эти люди, персонажи, все они были одержимы собирательством. В этом видится стремление к противостоянию энтропии, личным подвигом борьбы с хаосом. Некая граница совпадения духа, материи и Бога часто нащупывалась, от гностиков до Шеллинга и Батая, — школой мысли это, безусловно, не назвать, но общие предчувствия и ощущения объединяли совершенно разных мыслителей. В этом ракурсе эсхатологическое прорицание звучит в крайней степени самобытно, стоя над пропастью оскудневшего, опредмеченного бытия – обезглавленный собиратель из чудной дали, ощущая наступивший конец и не наступающее начало, собирает останки. В.Н. Топоров говорит по этому поводу, что отныне «иное мерещится в Плюшкине <…> Плюшкин — не накопитель, а собиратель, которому вещи дороже не богатством своим, а скорее бедностью и ветхостью; и сочувствие им, которое в его век представало бессмыслицей, век спустя стало способом сохранения смысла». Последний Собиратель – фигура алогенная, чужеродная по отношению к внецелеположному хаосу и бессмысленному сущему. Одержимость смыслами – энтелехия собирательства, цель и его итог.
В статье «Вещь» Мартин Хайдеггер обосновывает свой чрезвычайно тяжеловесный концепт четверицы, посредством вопрошания о том, в чем же состоит чашковость чаши? В чем её существо? И отвечает, что «чашечность чаши осуществляется в подношении налитого в нее». Невозможность поднести пустую чашу (такой невозможности нет у молотка или косы) указывает не столько на чашковость чаши, сколько на особый вид реляции, отношений между людьми, образующими особенную «культурную пору» — сферу сакрального, где стирается «только человеческое». В чаше может быть налито вино «от плода виноградной лозы, в котором взаимно вверились друг другу соки земли и солнце небес». Это вино возливается, жертвуется богам и в этом «подношении чаши всякий раз по-своему пребывают смертные и божества».
Таким образом образуется «простота единственной четверицы» — пересечение богов, смертных, земли и неба в вещи (чаше), «одно-сложенность четырех». В немецком языке слово Ding (вещь) происходит от thing – собрание, публичный процесс. Так и русское вече напрямую соотносится с делом (вещью). Дар подношения – это не постоянство наличного, а событие, выносящее четверых в ясность их собственной сути. «Единясь в этой взаимопринадлежности, они выходят из потаенности», т.е развертывается взаимоудаленность божества и человека, неба и земли, именно через диалектику близости и дали четверица обнаруживает себя как пересечение зеркальных границ. Для Хайдеггера граница не разъединяет, но соединяет – это обусловленность близости дали, постоянная видимость зеркального, недостижимого горизонта. То,
Вещь в «Истоке…» не обладает служебностью, поэтому она не изделие, и не является обобщенным сущим, поэтому не является и творением. Она просто субстрат, содержащийся, как подложка, и в изделии, и в творении, но ни о какой сообщаемости, задеваемости не идет речи. Значит, Тёмный Князь в очередной раз темнит, и в статье «Вещь» речь идет о совершенно иной сакральной категории, четвертой ипостаси в триаде вещь-изделие-творение – «виктиме». В «Истоке…» говорится, что изделие — это нечто, сделанное для чего-то и раскрывающееся как

Последний Собиратель трагичен и одинок, социальность подвергла его остракизму за одержимость и утерю способности к различанию друзей и врагов. Его интересуют только вещь как виктимальный смысл — он одержим ею, а потому не может коммуницировать в общественном пространстве. Он изъят из хаоса ускользающей современности, а потому его язык – язык птиц, ангельское щебетание, неуловимое для уха опосредованных плоскостями нынешней метафизики. Но стояние над пропастью и невозможность повернуть назад – делает невозможным место собрания веча. Дело даже не в том, что более негде собраться, а в том, что никто не соберется. «Царство недалекого» — владычество незадевающих объектов. В этом случае Последний Собиратель отрубает свой аппарат анализа, подвергая дивергенции возможность различания, и подвергает аннигиляция саму способность говорить за мир. «Последней жертвой станет палач», поэтому Последний Собиратель убеляется, становиться логосным скопцом – приносит себя в жертву мира и его мирности, вливаясь в континуальность мифа. Отныне всё, включая его – не объект, но виктима. В такой перспективе радикальной покинутости остается неясным теологический аспект, характерезующийся как состояние после того, как старые боги ушли, а новые еще не пришли. Так одна из сторон четверицы (божественное) оказывается под угрозой. Но…
Скопчество Плюшкина носит явственный, радикальный характер. Как уже было сказано, он также как и Кондрадий Селиванов «отжег свои тайны уды» логоса, «сел на белого коня», стал «большим кораблем» и шестикрыло вознёсся в предел не-различимости. Чаемая русским умом беспочвенность, богооставленность и нигилизм — способствуют «кенозису нового эона», сошествия божественно во ад современности. Мейстер Экхарт, как честнейший и последовательный православный исихаст, учил, что отрешенность выше всякой любви. Для обоснования этого, он приводил странный рейнский коэн, а именно свою встречу с голым мальчиком, которого он спросил:«Откуда ты идешь?» :
— «Я прихожу от Бога».
— «Где ты оставил Его?»
— «В добродетельных сердцах».
— «Куда ты идешь?
— «К Богу».
— «Где ты найдешь Его?»
— «Там, где оставлю все творения».
— «Кто ты?»
— «Царь».
— «Где твое царство?»
— «В моем сердце».
— «Смотри, чтобы никто не поделил с тобой твоей власти».
— «Я так и делаю».
На попытку Экхарта предложить ему одежду мальчик ответил: «Тогда я не был бы царем», – и исчез. Здесь кроется не только христианская метафизика нагости (см. «Нагота» Дж.Агамбена) с вытекающими спорами клюнийцев и цистерианцев, черных и белых монахов, но и призыв к отрешенности, к выдержки пустотности сердца. В одной из проповеди Экхарт говорит, что «совершенная отрешенность не ведает твари, ни склонения перед ней, ни самовозвеличивания. <…> Она не стремится ни к подобию, ни к различию с
В этом нащупывается тот темный, последний Бог, о котором прорицал Хайдеггер, говоря что христианизация Бога привела к тому, что уже тысячилетие не являлся ни один Бог, мы разучились воспринимать божественное иначе, чем через метафизику. Хайдеггер отпевая панихиду по христианству, говорит что только без-божное мышление, мышление, которое не сводит Бога к причине, к causa sui бытия сущего, способно приблизить нас к божественному: «Перед causa sui нельзя пасть на колени в священном трепете, перед этим богом человек не может петь и танцевать. А посему и
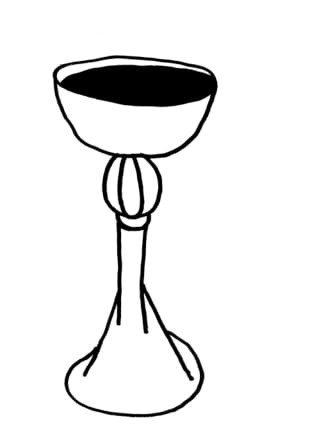
В со-бытии бездна божественной свободы обнаруживает свое решение в лице Последнего Бога, носителя Нового Начала. Последний Бог, кивая, проходит мимо. Его про-шествие уже является достаточным, опоясывая горизонты – он скрывается в первородной дали. В жертвоприношении человек позволяет Бытию экзистировать сущностно, сквозь себя, посредством себя, мистериально-экстатически. «Если мы так плохо понимаем “смерть» в ее самом внешнем выражении, как хотим мы взрастать в редчайшем кивке Последнего Бога?». Подорванный на собственной мине нигилизма, христианский Бог обнажил ту воронку смерти, которую он после себя оставил. Последний Бог, смотря на это место испепеления, нервно дергнув уголком своих нерешительных губ, проходит мимо неё, его кивок первичнее смерти. В кивке Последнего Бога «проявляет себя внутреняя конечность Бытия”, характерная особенность воплощенной эсхатологии – не только скрыться за Ничто, но и собраться в мгновенной вспышке виктимального со-бытия, сделать радость перед лицом смерти своей молитвой. Придется поправить слова святителя Григория Паламы: Бог выйдет, и не скажет, но пройдя мимо – молча кивнет. «Последний Бог – это начало очень длинной истории по своему очень короткому пути. Долгая подготовка требуется для великого мгновения его прохождения мимо. Для подготовки этого малы самые большие народы и государства (…). Только великие, скрытые от посторонних глаз единицы создадут необходимую для прохождения Последнего Бога тишину и распростронят между собой молчаливый призыв готовности». В ком так нуждается Последний Бог для своего про-шествия мимо? В убеленной от змееподобного логоса фигуре, скитающейся по граням сущего, чужеродце, одержимом собирательством голых смыслов, знаков кивка – Последнем Собирателе, который выудит все вещи из бурлящей энтропии для последней жертвы, жертвы Новому Началу.
«Кровь и Слюни» специально для журнала ИШЬ
