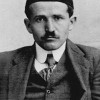Постмодернистские тексты как продукции генераций случайных символьных секвенций алгоритмом британского музея
Современная постмодернистская культурная среда выработала удивительно элаборативные методы инкорпорации текстов, основанный на игнорировании смысла, который можно вложить в сочинения профанными техниками прошлого. Сакральное восприятие текста как некоторого полотна, сходного аристотелевскому tabula rasa, позволяет найти новые звучания смыслов в наборах символов, восприятие которых невозможно в рамках косных механизмов традиционных культурных институций.
Здесь уместно рассмотреть конструкцию принятую в формальной математической логике, а именно идею алгоритма британского музея, гипотетического эксперимента, в ходе которого первоприматы репродуцируют на ротапринтах библиотечный корпус британского музея. Именно вокруг этой концепции мы сформируем дискурс нашей работы. Попробуем рассмотреть один из возможных подходов к пониманию выдвинутой гипотезы. Логическое обоснования данной концепции было бы невероятной опрометчивостью, поскольку любое доказательство являет собой пример устаревший формации.
Мыслильня — это пример think tank погружение в среду, которого может оказаться удивительно полезным для восприятия и плодотворного осмысления идеи квазислучайной генерации текста. Рассмотрим теорию в более обобщённых терминах: введём категорию текстов с морфизмами пермутации символов, тогда наше предположение будет утверждать, что постмодернисткие тексты образуют полную подкатегорию, финитно мультипликативно замкнутую относительно копроизведения в категории текстов, определение которого тривиально и оставляется читателю.
Откажемся теперь на время от изложенного выше формального подхода и постараемся чувственно и антиэссенциалистски подойти к проблеме. Её можно восчувствовать как соотношение случайности и предвечного эйдоса текста, которые сливаются в его интерпретированной реальности. Но однако же всякий эйдос постмодернистски-релятивизуем и стало быть не может оказаться вовлечён в процесс чувственного понимания и мы изгоняем его вовсе из восприятия интерпретированного текста именно за его релятивность и неустойчивость. Таким образом в качестве invaris’а мы имеем именно пермутационно сохраняемую часть, чувственно неотделимую от интерпретированного текста.
Может показаться, что символ в своём текстуальном значении не играет существенной роли в ощущении текста как некой сенсуальной бытийности, но это не так. В действительности именно транспонируя и пермутируя разные части текста перед нами открывается истинный смысл, именно на это были ориентированы такие исихастические практики как плетение словес и восточные традиции в написании текстов, которые можно воспринимать разнонаправленно и пермутационно.

Через таких представителей культурных формаций XX-го века как Ларионов эти техники интродуцировались в корпус постмодернистских методов о которых шла речь выше.
Суммируя данное рассмотрения следует отметить, что такую точку зрения ранее выдвигал такой выдающийся мыслитель современности как Лев Кацис и часть его учеников. Именно эта традиция применения алгоритма описанного выше может быть прослежена (и прослеживается) историками текстов начиная с Аристофана. Возможные исследования в этой области только начинаются.