Всеволод Петров: воспоминания о Хармсе
В Издательстве Ивана Лимбаха выходит новая книга — «Турдейская Манон Леско» Всеволода Петрова. Публикуем главу из книги, посвященную воспоминаниям о Данииле Хармсе.
Ранней весной 1933 года я ехал на площадке ночного трамвая, возвращаясь от друзей и провожая знакомую даму. В пору моей юности одинокие трамваи бродили по городу до утра. На углу Бассейной и Литейного, где закругляются рельсы, трамвай замедлил ход, и на площадку вскочил высокий молодой человек необычного вида. Он был в котелке, каких тогда решительно никто не носил, и показался мне элегантным на иностранный лад, несмотря на довольно поношенное и потрепанное пальто.
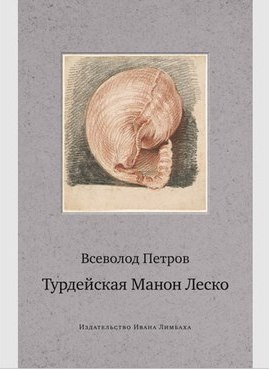
Моя спутница приветливо улыбнулась ему. Он снял котелок и с несколько аффектированной учтивостью поцеловал ее руку. Время было хамоватое, и мало кто целовал тогда руки дамам, особенно в трамвае. Мы с молодым человеком обменялись сдержанными полупоклонами, и он прошел в вагон.
— Кто это? — спросил я свою спутницу.
— Поэт Даниил Хармс.
Я надолго почти забыл эту встречу. Слегка запомнился только непривычный котелок, запомнилась иностранная фамилия, вполне подходившая к европеизированной, не то английской, не то скандинавской внешности молодого человека, и понравилась элегантная, несколько старомодная учтивость его манер.
Конечно, я не мог тогда предполагать, что мне предстоит тесно сблизиться и подружиться с этим человеком. Я был мальчишкой. До дружбы с Хармсом мне еще следовало дорасти. Прошло пять лет. Многим еще памятно, какие это были годы. Я помню, как шел однажды поздно вечером по Каменноостровскому от Карповки до Невы и насчитал по дороге восемь «черных воронов», которые стояли у подворотен в ожидании добычи. Прохожие боязливо отводили от них глаза, стараясь делать вид, будто ничего не замечают. Все боялись тогда новых знакомств и старались избавиться от прежних, даже самых старинных.
<…> Чтобы не заставлять читателя слишком долго медлить у входа в коммунальную квартиру тридцатых годов, прибавлю лишь, что жили в ней, кроме Даниила Ивановича и его жены, еще его сестра со своей семьей и старый отец, Иван Павлович Ювачев, человек, по-видимому, даровитый и свое образный, с не совсем обычной судьбой: морской офицер, ставший народовольцем, впоследствии раскаявшийся, состоявший когда-то в переписке с Львом Толстым и под конец ставший истово православным.
Были в этой квартире, конечно, и посторонние жильцы, не имевшие никакого отношения к семье Ювачевых. За стеной комнаты, занимаемой Даниилом Ивановичем, вечно стонала, громко причитала какая-то старуха. Вряд ли следует думать, что религиозность Хармса представляла собой дань семейной традиции. Мне трудно судить, существовала ли духовная близость между Даниилом Ивановичем и его отцом. Народовольческое прошлое Ивана Павловича несколько шокировало его сына. Но
* * *
Хармс церемонно представил меня своей жене и познакомил с гостями. В узкой и длинной комнате с завешенными окнами уже сидело за столом человек пять или шесть, а потом появились еще две молодые дамы; какой-то худенький сморщенный старичок играл на цитре и пел песенку собственного сочинения. Я был уже очень наслышан о комнате Хармса. Рассказывали, что вся она с полу до потолка изрисована и исписана стихами и афоризмами, из которых всегда цитировали один: «Мы не пироги». Но, должно быть, эти сведения относились к
Впрочем, было еще одно произведение изобразительного искусства, о котором следует рассказать: настольную лампу украшал круглый абажур из белой бумаги, разрисованный и раскрашенный Хармсом. Там изображалось нечто вроде процессии или, вернее, группового портрета. Один за другим шли те самые люди, которых я в дальнейшем постоянно встречал у Хармса: Александр Иванович Введенский, Яков Семенович Друскин, Леонид Савельевич Липавский, Антон Исаакович Шварц и другие знакомые Даниила Ивановича с их женами или дамами. Все были нарисованы очень похоже и слегка — но только чуть-чуть — карикатурно. В изобразительном отношении рисунок отдаленно напоминал графику Вильгельма Буша. В центре процессии был автопортрет Хармса, нарисованный несколько крупнее других фигур. Даниил Иванович изобразил себя высоким и сгорбленным, весьма пожилым, очень мрачным и разочарованным. Рядом была нарисована маленькая фигурка его жены. Они уныло брели, окруженные друзьями. Хармс говорил мне потом, что он сделается таким, когда перестанет ждать чуда.
Здесь я касаюсь одного из довольно существенных убеждений Хармса. Он считал, что ожидание чуда составляет содержание и смысл человеческой жизни. Каждый по-своему представляет себе чудо. Для одного оно в том, чтобы написать гениальную книгу, для другого — в том, чтобы узнать или увидеть нечто такое, что навсегда озарит его жизнь, для третьего — в том, чтобы прославиться, или разбогатеть, или что-нибудь в любом роде, в зависимости от души человека.
Однако людям только кажется, что их желания разнообразны. В действительности люди, сами того не зная, желают лишь одного — обрести бессмертие. Это и есть настоящее чудо, которого ждут и на пришествие которого надеются.
Чуда не было год назад и не было вчера. Оно не произошло и сегодня. Но может быть, оно произойдет завтра, или через год, или через двадцать лет. Пока человек так думает, он живет. Но чудо приходит не ко всем. Или, может быть, ни к кому не приходит. Наступает момент, когда человек убеждается, что чуда не будет. Тогда, собственно говоря, жизнь прекращается, и остается лишь физическое существование, лишенное духовного содержания и смысла. Конечно, у разных людей этот момент наступает в неодинаковые сроки: у одних в тридцать лет, у других в пятьдесят, у иных еще позже. Каждый стареет по-своему, в своем собственном темпе. Счастливее всех те, кто до самого конца продолжает ждать чуда.
Не слишком высоко ценя Льва Толстого как писателя, Хармс чрезвычайно восхищался им как человеком, потому что Толстой ждал чуда до глубокой старости и в восемьдесят два года «выпрыгнул в окно», чтобы начать новую жизнь, стать странником и, может быть, убежать от смерти.
* * *
В ту пору, когда я познакомился с Даниилом Ивановичем, ему было тридцать три года. Мне, двадцатипятилетнему, он казался не старым, конечно, и даже не пожилым, но уже свободным от недостатков и слабостей, свойственных юности. Он был вполне зрелым человеком со сложившимся мировоззрением и до конца продуманным отношением к жизни. Я должен теперь рассказать о характере моих отношений с Хармсом — отношений, которые сложились сразу и с первой встречи приняли законченную форму, не изменявшуюся в течение трех последующих лет его жизни.
Существует любовь с первого взгляда. О ней немало написано. Люди, едва встретившись и еще ничего не зная друг о друге, испытывают неодолимое взаимное притяжение. Шекспир в «Ромео и Джульетте» и Хемингуэй в замечательном романе «По ком звонит колокол» рассказывают об этом почти одинаково, при всей несравнимости описываемых обстоятельств, быта и психологии персонажей. Но что же такое любовь? Не вдаваясь в теорию и не претендуя на исчерпывающие определения, приведу лишь слова В.В. Розанова, которые, по моему убеждению, отмечают едва ли не самое важное: «Хорошо только там, где ты, а без тебя повсюду уныло и скучно». Главное в любви — это стремление быть вместе.
Но есть и дружба с первого взгляда, во всем подобная любви, за вычетом лишь физического влечения. Дружба, как и любовь, проходит последовательные фазы: сначала обостренный взаимный интерес, потом нарастающее духовное сближение и, наконец, охлаждение, нередко переходящее во взаимное недовольство, антипатию и даже ненависть. Всему свои сроки.
Как всякое творческое явление, дружба требует таланта. Хармс был одарен талантом к дружбе не меньше, чем йенские романтики или наши первые символисты. В дружбу он вкладывал творческую энергию. Имена друзей, как вехи, отмечают течение его биографии. Где-то в начале двадцатых годов тесная дружба связала его с Введенским.

Она продолжалась долгие годы и прошла, как мне кажется, все последовательные фазы, завершившись холодными — нет, скорее тепловатыми приятельскими отношениями. Потом у Даниила Ивановича была недолгая дружба с Заболоцким, потом с Олейниковым, после с Друскиным. Мне выпала судьба стать последним другом Хармса.
Нашей дружбе был отмерен короткий срок. Она оборвалась насильственно, едва дойдя до высшей точки. Может быть, стоит упомянуть, что в силу свойственной нам обоим церемонности мы никогда не переходили на «ты» и обращались друг к другу по имени и отчеству.
* * *
Я помню, что уже с первого прихода к Хармсу почувствовал своеобразие духовной атмосферы его дома, ее несхожесть ни с чем ранее виденным и испытанным, хотя и не смог бы тогда определить, в чем же именно она заключается. В доме господствовали свобода и непринужденность. Хозяева дома и их гости были тогда молоды и беззаботны, несмотря на то что жизнь у большинства из них была совсем нелегкой. Гости приходили когда угодно, вели себя как хотели, делали все, что им нравилось, и говорили о том, что их интересовало.
Одна только тема была под запретом в доме Хармса, как, впрочем, и во всех других домах того времени: никто и никогда не говорил о политике и властях. Условливаться не приходилось, все сами все понимали. Почти всякий вечер помногу музицировали.
Я.С. Друскин играл на фисгармонии Баха и Моцарта. Часто приходила редакторша Детгиза Э.С. Паперная, знавшая несколько тысяч песен на всех языках мира. Даниил Иванович очень приятным низким голосом охотно пел, иногда вместе с Паперной, иногда и без нее. Он любил песенки Бельмана, полузабытого шведского композитора XVIII века. Хармс и сам пробовал сочинять музыку. Я не берусь о ней судить. По общему признанию, он был необыкновенно музыкален.
Даниил Иванович и его прелестная жена Марина Владимировна Малич были приветливыми и внимательными хозяевами. Но их внимание никогда не превращалось в давление на присутствующих. И все же при всей свободе и непринужденности, царившей в доме, мы, сами того не замечая, испытывали — не могли не испытывать — сильнейшее воздействие индивидуальности Даниила Ивановича; нас вела его неощутимо направляющая рука. Мне думается теперь, что все мы были в
Тут мне особенно важно быть правильно понятым. Было бы, конечно, сущей клеветой на Даниила Ивановича думать, будто он собирал своих знакомых и друзей для того лишь, чтобы над ними посмеяться. Он их искренне любил. Он был готов преклоняться перед дарованием Введенского, которого считал гением; он высоко ценил острый ум Липавского, силу мысли и философскую интуицию Друскина. Для иронии Хармса характерна и существенна доброта. Он презирал сатиру как низший род литературы. Но Хармс строил свою жизнь, как строят произведение искусства, и вовлекал нас в это произведение.
Здесь уместно сказать несколько слов о людях, которых Даниил Иванович называл «естественными мыслителями». Это была совершенно особая категория его знакомых, по большей части найденная случайно и где придется — в пивной, на улице или в трамвае. Даниил Иванович с поразительной интуицией умел находить и выбирать нужных ему людей. Их всех отличали высоко ценимые Хармсом черты — независимость мнений, способность к непредвзятым суждениям, свобода от косных традиций, некоторый алогизм в стиле мышления и иногда творческая сила, неожиданно пробужденная психической болезнью. Все это были люди с сумасшедшинкой; люди той же категории, из которой выходят самодеятельные художники-примитивисты (Naive Kunst), нередко превосходные, или просто народные философы-мистики, нередко весьма примечательные. В ежедневном общении они обычно бывают трудны и далеко не всегда приятны. Даниил Иванович приводил их к себе и обходился с ними удивительно серьезно и деликатно. Я думаю, что его привлекал в первую очередь их алогизм или, вернее, особенная, чуть сдвинутая логика, в которой он чувствовал какое-то родство с тайной логикой искусства. Он рассказывал мне, что в двадцатых годах, в пору бури и натиска движения обэриутов, всерьез проектировал «Вечер естественных мыслителей» в Доме печати. Они бы там излагали свои теории.
Впрочем, в те годы, когда я близко знал Даниила Ивановича, его интерес к «естественным мыслителям» стал невелик. Должно быть, он уже взял от них то, что они могли ему дать. Новых «мыслителей» он уже не искал. Но
Помню добродушного и болтливого Александра Алексеевича Башилова. Он неизменно раза два в год попадал в психиатрическую больницу и выходил оттуда со свидетельством, где, как он уверял, было написано, что «Александр Алексеевич Башилов не сумасшедший, а вокруг него все сумасшедшие». Башилов был племянником управдома и думал почему-то, что дядя покушается на его жизнь. Однажды управдом вместе с дворниками скидывал с крыши снег и попадал прямо на стоявшего внизу Александра Алексеевича. Тот, чуть ли не по пояс в снегу, возмущался, кричал и требовал, чтобы это прекратилось, но отойти в сторону не додумался.
Помню молчаливого и мрачного Рундальцева; этот был совсем в другом роде. Он обладал способностью просидеть целый вечер, не проронив ни слова, и только обводил всех тяжелым взглядом.
Люди ищут и видят в других только то, что вкакой-либо мере свойственно им самим.
Даниил Иванович тянулся к «естественным мыслителям», потому что в своей собственной психике знал и чувствовал сдвиги, решительно отличающие поэта от мира так называемых нормальных, то есть попросту нетворческих людей. Обладая принципиальным и ясным умом, Даниил Иванович, я думаю, ценил в себе эти сдвиги; ему, наверное, казалось, что именно эти сдвиги помогают реализовать его творческий дар и обостряют его поразительную интуицию, похожую на ясновидение. Только в отличие от бедных «мыслителей», которыми владело безумие, Даниил Иванович сам владел своим безумием, умел управлять им и поставил его на службу своему искусству.
* * *
«Интеллигентные» разговоры о книгах или театре не пользовались уважением в доме Хармса. Шла осень унылого тридцать девятого года. Теперь, в исторической перспективе, стало более очевидным, что год был таким же зловещим, как и два предшествующих года — страшный тридцать седьмой и безнадежный тридцать восьмой. Стало также вполне очевидным теперь, что в эти годы готовились и назревали огромные события, вскоре охватившие весь мир. Но мы, жившие тогда, не умели понять и увидеть это. Мы видели только, что время наше мрачное и беспросветное; но мы не различали за ним никаких очертаний будущего.
Даниил Иванович был одним из тех немногих, кто уже тогда предвидел и предчувствовал войну. Горькие предвидения Хармса облекались в неожиданную и даже несколько странную форму, столь характерную для его мышления.
— По-моему, осталось только два выхода, — говорил он мне.
— Либо будет война, либо мы все умрем от парши.
— Почему от парши? — спросил я с недоумением.
— Ну, от нашей унылой и беспросветной жизни зачахнем, покроемся коростой или паршой и умрем от этого, — ответил Даниил Иванович.
Ирония и шутка были для него средством хотя бы слегка заслониться от надвигающейся гибели. Он думал о войне с ужасом и отчаянием и знал наперед, что она принесет ему смерть; он и вправду не пережил войну, хотя гибель пришла к нему, быть может, не тем путем, какого он тогда страшился.
Военная служба казалась ему хуже и страшнее тюрьмы.
— В тюрьме можно остаться самим собой, а в казарме нельзя, невозможно! — говорил он мне.
У меня уже был тогда небольшой опыт казарменной жизни, приобретенный во время лагерного сбора после перехода с первого на второй курс университета. Я мог поэтому понять, насколько непереносимой была бы для Даниила Ивановича солдатская жизнь…
