Александр Мурашов. Cogito ergo sunt (о книге Кирилла Корчагина "Все вещи мира")
Я очень серьезно отношусь к названию книги Кирилла Корчагина — «Все вещи мира». Я думаю, оно передает то, о чем я и собираюсь написать: единство, взаимосвязь, которая допускается разумом и которую может раскрыть поэзия как
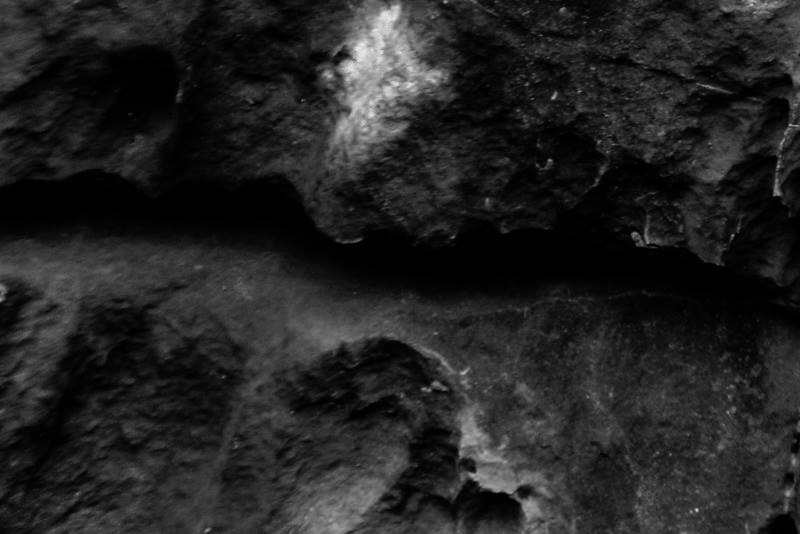
При чтении может, однако, прийти на ум мысль об уитменовской перечислительной дескриптивности, однако это неверно, по двум причинам: пространство Корчагина вовсе не простор и Корчагин не пишет верлибров. Эти причины связаны. Что касается пространства, то это Декартово динамическое пространство сквозной причинности, где одни тела приводят в движение другие, на микроуровне и на макроуровне, где угодно, так что возникает ощущение сплошного заполнения, пронизанного передаваемым, сообщаемым движением. Что касается стихов, то их прихотливый ритм, ритм от полустиха к полустиху, от стиха к стиху как бы сообщает движение от предшествующих слов последующим. Такова временная непрерывность причин и следствий, создаваемая сплошным движением тел. Кажется, сами излюбленные Корчагиным анжамбманы, переносы слова из строки в строку есть перехлесты движение за паузу между стихами. Но тут не все так просто, о чем мы попытаемся сказать немного позже.
Субъект оказывается то погруженным в это движение телом, то — на периферии этого кишения, подобно Декартову субъекту (res cogitans) относительно протяженности (res extensa), как если принять максиму: человек всегда на обочине бытия, человек и есть обочина бытия. На самом деле, я думаю, в стихах Корчагина субъект раздвоен между захваченностью движением и нахождением на обочине, формулой Баратынского: «Отныне с рубежа на поприще гляжу…». И в целом мысль о Баратынском невольно вспадает на ум, чувствуется какое-то сходство интонации — отстраненность и в то же времена напряженная, тревожная связь с «миром тел».

Раздвоенность эта не декадентская. И если ощущение Декартова движения в протяженности времени, пространства и причинности создает как бы фон восприятия стихотворения, то сами анжамбманы совершают невозможное в Декартовом времени, но возможное в синтаксисе: последующие слова оказывают воздействие на предыдущие, иногда сильно модифицируя, при анжамбмане, образ движения, уже созданный, но не завершенный прежде. Обычно эти слова, перенесенные из строки в строку — глаголы или иные слова, характеризующие образ действия. Или наоборот: переносятся слова, непосредственно связанные с глаголом — актант или предмет действия, управляемое слово, дополнение, которое уже в самой своей синтаксической сущности восполняет взывающее недосказанное. Вот эта-та модификация предшествующего — предыдущим возможна как сопротивление непроницаемой материи, если вернуться от слов к вещам.
задевают смутно касаясь кружат
какие-то точки и пелена за ними
и не то что надвигается, но
вплотную кто бы ни появился
поднимаются кверху колонны…
(«задевают смутно касаясь кружат»)
Происходит германизация синтаксиса, с обычной для германского предложения постановкой глагола в конце фразы, даже глагола с отрицательной частицей. Маллармэ пытался передать это свойство немецкого глагола в предложении с помощью причастия aboli (отмененный). Я думаю, Корчагин воспринял эту особенность и от немецких поэтов, и от Маллармэ, которого переводил. Но если вообразить бильярдный шар, приводящий в движение другой и при этом отталкивающийся от второго, мы увидим, что тут воздействие и противодействие, оказанное вторым шаром так, что изменилось движение первого, одновременны. Это невозможно в языке, или возможно лишь в слабой степени, благодаря «вертикальным связям»: так, например, рифмующее слово изменяет смысловую нюансировку того, с которым оно рифмует. Этот эффект языковой отдачи и усилен в поэзии Корчагина с помощью анжабманов.
над тяжелыми соснами тающими кораблями
закипает наледь заглядывают в окна
утомленные квартиранты над чистой
планетой проносящиеся в рассветном
копошении эпителия…
(«звук вплетается в замирающий знак ночи»)
У анжамбмана есть черта, противоречащая его склонности связывать стихотворные строки. Стирая, за счет синтаксической незавершенности фразы, межстиховую паузу, он тем сильнее — в начале нового стиха! — подчеркивает синтаксическую. Возникает чувство замирания, едва не прекращения движения. Парадокса тут нет — в математическом континууме, с Николая Кузанского проецируемом на мир вещей, «пространство» между двумя единицами бесконечно дробится на меньшие единицы, не доходя до нуля. Пауза не создает пустоты, невозможной у Декарта: она создает некое едва заметное течение корпускул от законченной фразы к следующей. Я бы сказал, что, благодаря кажущемуся иссяканию, почти остановке двигательного импульса, пространство в стихах Корчагина — по крайней мере, данное как время и причинность в отношении своей непрерывности — сегментировано. Движение в нем приобретает видимость скачка, я бы сказал — потенциально диалектического скачка. Я не знаю, возможна ли диалектика в материи (и никто не знает), но мы говорим не о вещах, а словах. «Каждый звук должен умереть», — говорит старый Марэн Марэ, наконец понявший творческую философию своего учителя Сент-Коломба. Каждый конечный тезис должен истаять в синтезе, сплавляясь со своим антитезисом в невозможности «снятия» — полного покрытия высшим иерархическим понятием двух противоположных низших. Но, тем не менее, диалектическая возможность «снятия» (возможность невозможности) как бы приоткрывается окончанием одной фразы в начале или середине следующего стиха. Фраза завершилась, но стих не закончен, и далее: стих завершен, но незакончена фраза. По сути, анжамбан и есть Aufhebung, «снятие», или, по крайней мере, «след» тезиса как его диалектическое производное: его присутствие — в словах и его отсутствие — в вещах, его продление — в стихе и его прекращение — в синтаксическом целом.

Картезианское пространство не допускает «снятия», потому что, перефразируя еще одного немецкого классика, в нем образовалась бы некрасивая дырка. Но вакуума, по Декарту, не существует. Поэтому и присутствующий на онтологической обочине субъект, и субъект, погруженный в непрестанное движение, не отменяют, не вытесняют один другого. Особенно это наглядно, почти до степени так называемого «обнажения приема» в стихотворении «Сообщество».
дождь идет, водостоки забиты листвой —
их кровь уносят сточные воды и выстрелы
отзываются в нашей москве где уже выпадает снег
и на поэтических чтениях все меньше народу
У Корчагина есть особые слова-сигналы, которые, на мой слух, как бы вмешиваются в текст из
их обнаженность простертая
по этому городу так дремлет
настороженно, но и ей предстоит
пока поднимается солнце
(«цветные развешаны полотна»)
Такова книга Кирилла Корчагина. Завершая рецензию, следует вернуться к началу — к заглавию. Мне кажется допустимым представить это название как связь между заглавием киньяровского романа и знаменитым парадоксом из стихотворения Хорхе Луиса Борхеса: «Только одной вещи нет в мире — это забвение». Все вещи мира безвозвратны, но забвения нет, и потому не может исчезнуть ни одна из них. Как мне представляется, подобный горизонт идеальности, недостижимую цель, которая делает возможным само движение к цели, задает себя корчагинское письмо. Конечно, Борхес сказал, что забвения нет в мире, потому что забвение есть отсутствие забытого, и
