Александр Мурашов На параллельных рельсах, сходящихся у горизонта
Читая Андрея Сен-Сенькова, я всегда думаю о Гомесе де Ла Серна. «С изобретением кинематографа облака, остановившиеся на фотографиях, пришли в движение» — писал классик испанского модернизма. Таковы были его «грегерии» — так сказать, «византизмы», отдельные странные фразы, неожиданно и иронически связывающие разнородное. Уподобления, сближения Сен-Сенькова это параллельные прямые, пересекающиеся в бесконечности или немного ближе. Общее неочевидно, зато различия, несовпадение четко артикулировано. Вот минимальный пример такого сближения — само название книги «Воздушно-капельный теннис». Общее, как кажется, — это «путь» («воздушно-капельным путем»), но тогда это путь мячика, путь в обоих направлениях. В стихотворении «Воздушно-капельный теннис» оказывается, что речь идет об ураганах и именах теннисисток — заранее не угадаешь. Однако, если рассматривать название книги как относящееся не только к одноименному стихотворению, при сближении «далековатых идей» происходит именно челночное движение: они отбрасывают одна к другой, семантически преобразуют, «заражают» друг друга, не оставляя места отношения подчиненности между собой. Так происходит и в «грегериях» Гомеса.
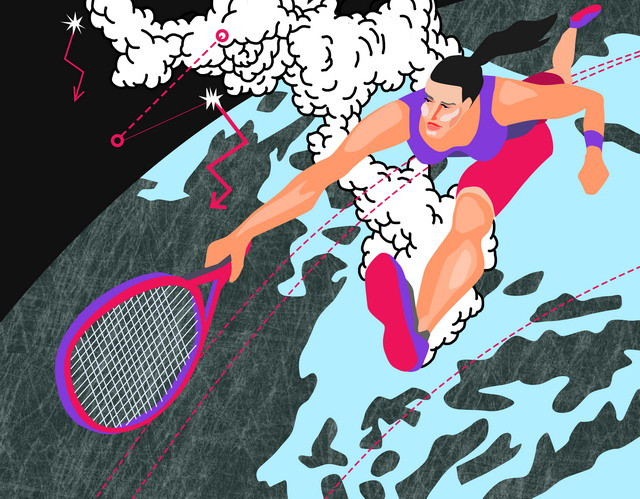
Сен-Сеньков продолжает линию Владимира Бурича в русском верлибре, однако придавая более игровой и необязательный характер своим развернутым афоризмам, развивая их в прихотливом русле индивидуального сознания, а не апеллируя к всеобщему, чего требует афоризм. Он дразнит, а не навязывает. Связь между «посылками» его текстов — сложная образная, а не логическая. Точнее, это логика, основанная на образе, а не образ, основанный на логике. И все же прощупываемый скелет максимы говорит об эволюции у
Речь касательно Сен-Сенькова идет о парадоксе. Конечно, вдали видится Уайльд. Но Уайльд по индивидуальному вкусу связывал понятия, образуя суждения, переворачивающие клише викторианской морали. Сен-Сеньков обращается, как было сказано, к парадоксально сочетающимся образам. Нельзя сказать, чтобы его modus scribendi исключал этику. И все же этика, этос поведения здесь присутствует как намек, как дело реципиента. И вот поэтому вспоминается Гомес де Ла Серна. Он делает наблюдения, которые не ведут напрямую ни к чему, кроме неожиданной, иронической мысли о реальности — концепту в терминах старой испанской поэтики. А вот ранний Сен-Сеньков, «безглагольной» афористичностью выдающий происхождение своей манеры от поэтики Бурича, а сплетением образов напоминающий concepto де Ла Серны:
гвозди — вбитые поверх движения
слепого дождя
капли длины
Противоречие тут — образное, между «слепым дождем» и «каплями длины». В сущности, стихи Сен-Сенькова это развернутые метафоры, что сближает его с метаметафористами. В метафоре, как мы смотрим на нее сейчас, нет замены одного слова другим по сходству, а есть трансформация контекста неожиданным, логически противоречивым словоупотреблением, мотивированным скрытым сходством. Когда Элюар назвал Землю голубой, как апельсин, он продемонстрировал именно это — неожиданность, противоречие и затушеванный, неназванный общий признак (круглота).
В некоторых сравнениях Сен-Сенькова различимы перевертыши «рациональных» сравнений. Так, например, «на музей космонавтики падает сверху белое погибшие лабораторные мыши не похожие друг на друга как снежинки» (относительно прозаическое вступление к «Космосу как погоде» из «Воздушно-капельного тенниса»). Сравнение приобретает более рациональный вид, если мы переставим местами лабораторных мышей и снежинки: падают «снежинки», «не похожие друг на друга как лабораторные мыши».
Конечно, поэтика Сен-Сенькова эволюционировала. «Воздушно-капельный теннис» — промежуточный результат этой эволюции, далеко отстоящий от книги 1995 года. Первое, что сразу замечаешь: если в сравнениях типа «N — [это] …» первая часть N была краткой, то теперь Сен-Сеньков выстраивает симметричные конструкции, где обе части — одного объема, обе разветвляются одинаково распространенно. Однако это уже не совсем новое явление в творчестве Сен-Сенькова. Другая тенденция — к сопоставлению более чем двух образных рядов. Он стремится по ходу развития своего метода к наращению последовательности — разными путями. Так, например, в цикле «Vitalia» (2009) он обращается к классической традиции итальянских стихов, идущей от Блока и его современников и продолженную «Сапожком» Евгения Рейна: озаглавив, согласно ей, текст названием города, он вводит сближаемые величины, одна из которых связана с данным городом, «туристическая», а другая представляет развернутую метафору первой. Таким образом, включая заглавие, параллелизм строится из трех элементов. Но первая часть, N, остается здесь краткой. В «Воздушно-капельном теннисе» есть стихотворения, в которых распространены все три части подобного параллелизма (например, «Живеле», «Триптих для Моби Дика»). Наконец, Сен-Сеньков собирает метафорические двойчатки в краткие циклы, объединенные названием, что подразумевает ассоциативную связь двойчаток друг с другом («Космос как погода», «Горячие, теплые и холодные лучи зеленой звезды»). Иногда такие двучленные параллелизмы объединяет единоначалие, повторение первой стоки («12 дней критского пения», «Сербское гостеприимство»).
Некоторые мини-циклы предварены прозаической (но также часто метафорически организованной) преамбулой, то есть мы имеем дело с прозопоэтическим единством. Но в нашем перечислении мы описали модели, начиная с минимальных, эти модели представлены одними стихотворениями, в некоторых текстах они усложняются и варьируются.
Особое место в этом варьировании занимает отношение стиха и прозы. Проза может быть разбита вертикально, но при антифонном чередовании с собственно стихами нельзя не ощутить различия между поэтическими и, скажем так, прозопоэтическими частями («Триптих для Моби Дика»). Между стихопрозой и стихами выстраивается сопоставительное отношение. Само антифонное членение здесь задает различие стихопрозы и поэзии — не будь его, мы не имели бы право считать разделенную на строки прозу прозой. Автор подчеркивает чередование, выделяя прозопоэтические фрагменты курсивом, т.е. так же, как прозаические вступления к другим текстам. В конце концов книга стихов предстает как прозопоэтическое единство, сконструированное из элементарных частей — парадоксальных сравнений.
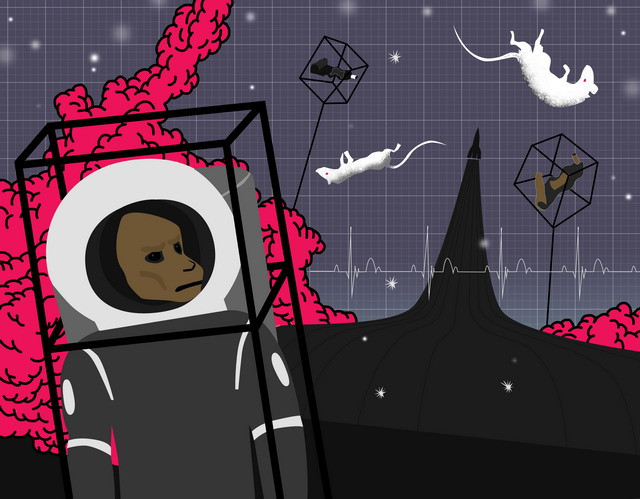
Что можно сказать о таком единстве как целом? Нужно упомянуть неослабевающую роль визуального, пластического начала в поэзии Андрея Сен-Сенькова. С этим визуальным началом, представляющим предмет описания, соотносится визуальное начало, характеризующее само описание. Оно подчеркнуто структурно, математично в композиции и пропорциях. Но структурность частей побуждает искать significatio целого. Это целое продолжает сложение единиц разных уровней. Так (мы не меряем линейкой размах дарований и замыслов) в «Божественной комедии» неуклонное восхождение ведет от
