Александр Уланов. Освоение неопределенности
Одному из стоящих у истоков философии, Гераклиту, принадлежит высказывание: «Эту-вот Речь сущую вечно люди не понимают» [Фрагменты, 1987, с. 179]. Его принципиальную неопределенность осознавали уже в древности, так, Аристотель в «Риторике» писал, что «тут неясно, к чему относится слово «вечно»» [Фрагменты, 1987, с. 179]. Представляется, что литература, несмотря на постоянно возникавшие в ней требования ясности и нормативные поэтики (например, Горация или Буало), никогда не оставляла без внимания неопределенность и многозначность — от Катулла с его «odi et amo» («ненавижу и люблю») до таких авторов испанского барокко, как Гонгора или Кальдерон. Философия, однако, предпочла использовать язык однозначного описания, пригодный для установления логических связей в мире объективного, но мало соответствующий миру субъективного с его неопределенностью, где ни одно явление не имеет однозначно указываемой причины. С его одновременным требованием взаимопротиворечащего поведения: например, быть в тесном контакте с любимым человеком и одновременно оставлять ему свободу («милый, научи меня сложному искусству пребывать одновременно здесь и не здесь», — говорила Рильке его возлюбленная Лу Альбер-Лазар [цит. по Рильке, 2013, с. 242]). Характерно, что даже философы-мистики, такие, как Мейстер Экхард или Якоб Бёме, от которых можно было бы ожидать большего внимания к неопределенности, его не проявили. Возможно, это связано как с их вниманием к единству (исключающему многозначность), так и с общей установкой философии на однозначное объяснение (пусть и при помощи мистических причин). Неопределенное не есть неведомое и не есть ничто.

Осознание необходимости обращения к неопределенному стало особенно острым в литературе первой половины ХХ века. Оно сопровождалось отказом литературы от описательности и освоением иных средств. Из очень большого множества примеров можно привести два, намеренно разделенных временем, типом текста и способом создания неопределенности. В стихотворении И.Ф. Анненского «Лунная ночь в исходе зимы», написанном в 1906 году, дважды повторяется «мы забыты ночью» и «и забыты ночью» [Анненский, 1989, с. 77]. «Ночью» может быть прочитано и как указание на время, и как указание на то, что ночь забыла нас. С другой стороны, в большом прозаическом произведении, цикле романов английского писателя Лоренса Даррелла «Александрийский квартет», созданном в 1950-е годы, последовательно демонстрируется, что одно и то же событие может восприниматься различным образом и иметь множество возможных причин, из которых невозможно выбрать одну истинную.
Современная литература продолжает движение в этом направлении. Меняется само понятие образа. Он «находится в семиотических полях постоянного переозначивания, где становится даже не образом, а преследованием возможности такового в условиях несхватываемой неустойчивости» [Драгомощенко, 2011, с. 212]. Работа Анны Глазовой так и называется «Текучий образ в поэзии Аркадия Драгомощенко» [Глазова, 2013, с. 258-266]. Образ постоянно складывается, но не менее постоянно разрушается (к чему автор также прилагает сознательные усилия: не дать тексту застыть). «Метафорой стиха становится не линия, не мелодия, но некий неопределенный звук, расплывающийся в радужном обводе голоса как пятно» [Ямпольский, 2000, с. 369].

«“Ты» и «я», «прошлое» и «будущее», «и» и т.д. могут быть исчерпаны в метафоре раковины, вращающей на одной оси внешнее и внутреннее, влагу и песок, присутствие и отсутствие, раковины, бывшей некогда в один и тот же миг инструментом зова и лабиринтом слуха. Определенности нет» [Драгомощенко, 2000, с. 347]. Драгомощенко обращается к предмету в его переменчивости, переменных связях с другими предметами. «Обернись к почти тополям» [Драгомощенко, 2011, с. 106]. Происходит балансирование на грани понимания — понимание стало бы ловушкой, непонимание бесплодно. Предмет — всегда не совсем он. Возможно расстояние между предметом и им самим же, но изменившимся, «расстояние между большим пальцем// и большим тем же пальцем» [Драгомощенко, 2005, с. 56]. Автор отказывается сокращать пространство значений, привязывая местоимение или грамматическую форму к определенному значению. «Просты,/ иногда отвесны, как стены, как память./ Как алфавит, иногда бессмысленны в настоянии» [Драгомощенко, 2000, с. 142]. Кто? — они. «Львиноголовые, бронзовокрылые…/ Пересекающие потоки…, / вскипающие в синеве разреженной…” [Драгомощенко, 2000, с. 16]. Это не поиск имени, а осторожное обрисовывание, всегда помнящее, что точность действительно убийственна, что единственным определением описываемое будет убито. Потому что «они» в тексте — птицы, ангелы, книги, камни, расколотые грозою — в одно и то же время.
«Обугленные системы того,// что видеть, когда спать расклеваны верхними [скорее,// «голодными»; склоняюсь к последнему] птицами» [Драгомощенко, 2005, с. 35]. Текст вариантен. Это даже не черновик, а скорее, возможности различных продолжений, все из которых развернуты быть не могут, и в этом своя трагедия. «Когда спать расклеваны» — также и компрессия языка, избавляющаяся от потери времени на ненужные связки. Встреча с человеком также осмысляется в категориях вероятности. «Возможны птицы. Вероятно время. И речь чуть сонная; ключицы,// прикосновенье рук» [Драгомощенко, 2005, с. 55]. «По колено уходишь, по вербу, по мере тебя, по море неба» [Драгомощенко, 2011, с. 42]. «По» — и поверхность, и мера, и цель (по грибы). «Недостаточность, стремясь к полноте,/ заключает субъект в предложение./ Предложение длиться (бежать)…» [Драгомощенко, 2011, с. 17]. «Предложение» — одновременно и фрагмент речи, стремящейся восполнить недостаточность, и предоставление возможностей, и требование.

Автор текста сохраняет открытость неуверенности. «Присутствие чье из ничто извлекал подспудный песок,/ омывавший их рты, как начертания буквы: (мы не уверены, к чему относится «их»)» [Драгомощенко, 2000, с. 83]. «Возможно также и солнце» [Драгомощенко, 2000, с. 179]. Неуверенность даже в том, предмет это или атрибут. «Тополь? Письмо? Катахреза? Прямоугольно? Синева в прорехах сепии?» [Драгомощенко, 2000, с. 267]. Автор отказывается подменять мир собственным (очевидно неполным) знанием о нем. «Оставь сообщение» — помести сообщение куда-то? брось всякие попытки сообщить? [Драгомощенко, 2000, с. 99].
Требуется смотреть одновременно с многих сторон. «Животное ли глаз? Или же он — плод, ягода, алгебраическое яйцо, не имеющее ничего общего с телесностью? Или же — стена, в которую заключена память?» [Драгомощенко, 2013, с. 39]. Требуется постоянно опровергать собственное высказывание. Текст стремится сохранить спектр возможностей. Сохранить монету застывшей в щели броска, между орлом и решкой [Драгомощенко, 2000, с. 163].
«Речь постоянно возвращает к понятию завершенной незавершенности, к созданию выражения вполне законченного в совлечении всех усилий и возможностей в произведение, которое невозможно исчерпать толкованием, чтением, пониманием, то есть к композиции абсолютно конкретных элементов и свойств языка, которые обнаруживают в итоге невозможность существования ни в едином смысле» [Драгомощенко, 2011, с. 369]. Причем эта невозможность является залогом существования.

Сходные тенденции к неопределенности можно отметить и у авторов, принципиально далеких от направления, к которому принадлежит Драгомощенко. В частности, у Виктора Кривулина встречается «стрекот письмен насекомых» [Кривулин, 1990, с. 21]. Это письмена, принадлежащие насекомым? или насекаемые письмена?
Таким образом, можно отметить, что, кроме сюжетных средств, для создания и наблюдения неопределенности в литературе используются многозначные ассоциативные связи, омонимы (в тексте могут работать несколько значений слова), синтаксис (например, структура, где слово образует две разные синтагмы с предыдущим и с последующим словами — к этому типу относится фраза Гераклита), местоимения с не уточненным значением и т.д. Так как интонация чтения вслух часто осуществляет выбор варианта, современная литература ориентируется скорее на письмо, чем на устную речь, в которую трудно успеть вдуматься, которой может опьяняться слушающий или говорящий — что существенно ограничивает вариативность восприятия.
Связь литературы и философии осознается сейчас именно через неопределенность. «Философия находится, отыскивается тогда на прибрежьях поэтического и даже литературы. Отыскивается там, ибо именно нечеткость этой грани и побуждает ее более всего мыслить» [Деррида, 2002 б, с. 100]. Через отказ современной философии от обобщений, через обращение к частному и индивидуальному: «нет “существования» вообще, но каждый раз имеется некоторое живое существо», а «сама эта «единичность” не есть уникальность сущности, но
Возможно, начало поворота философии к неопределенности произошло в работах Гастона Башляра. Это связано с его глубоким интересом к предметному миру — а предметы, существуя, не имеют определенных значений. Неуловимость присутствия для понятия отмечал французский поэт Ив Бонфуа: «Существует ли понятие шагов в темноте, которые звучат все ближе и ближе? Понятие крика, понятие камня, сорвавшегося с кручи и сминающего кусты? Понятие чувства, возникающего в опустелом доме?» [Бонфуа, 1998, c. 11]. Поэтому происходит мышление скорее предметами, чем понятиями. При анализе произведений Ницше Башляр замечает, что огонь в том варианте, к которому обращается Ницше, желает холода. Это взлетающая стрела, воля к воссоединению с холодным воздухом высот. «Огонь — это животное с холодной кровью. Это не красный язык змеи, а ее голова цвета стали. Холод и высота — вот ее родина» [Башляр, 1999, с. 182]. Одновременно с движением навстречу предметам у Башляра происходит движение навстречу субъективности. «Философия, занимающаяся уделом человеческим, должна не только признавать свои образы, но еще и приспосабливаться к ним, делать движение образов непрерывным. Она должна решиться на то, чтобы стать живым языком» [Башляр, 1999, с. 344]. Так философия приходит к использованию ресурсов живого неоднозначного языка. Grace у Башляра — это и грация, и благодать. Volo — и хочу, и лечу [Башляр, 1999, с. 38].
К принципиальной многозначности и противоречивости, которые неустранимы никаким диалектическим синтезом, многократно обращается Морис Бланшо. Он подчеркивает неопределенный статус как произведения (которое «не является ни завершенным, ни незавершенным: оно есть» [Бланшо, 2002, с. 12]), так и автора. Поэт «сам не знает, поэт ли он, но он не знает и что такое поэзия и даже есть ли она вообще; она зависит от него, от его исканий, причем такая зависимость не дает ему власти над искомым, а лишь делает его самого недостоверным для себя, как бы несуществующим» [Бланшо, 2002, с. 83]. Но только благодаря этому незнанию он и остается поэтом, а его произведение может оказаться хоть сколько-нибудь живым. Важна дистанцированность произведения от себя — посредством которой «произведение всегда ускользает от того, что оно есть, — кажется окончательно сделанным и, однако, незавершенным, как будто в беспокойстве, отдаляющем его от всякого схватывания, оно становится соучастником бесконечных вариаций становления» [Бланшо, 2002, с. 208]. Определенность уничтожает и читателя. «Вот что больше всего угрожает чтению: реальность читателя, его личность, его нескромность, ожесточенное желание остаться самим собой при встрече с читаемым; желание быть человеком, умеющим читать вообще» [Бланшо, 2002, с. 201]. Но и личность вообще уничтожается определенностью. «Кто вы?» — можно ли вообще ответить на этот вопрос, не скользя по поверхности социального?
Личности свойственна взаимоисключающая и сосуществующая сложность. «Когда ты вспоминаешь, что я тебя покинул, это правда. Когда с грустью говоришь, что я тебя даже и не покидал, это правда. Но если ты думаешь, что я был покинут самим собою, то кто же сейчас рядом с тобой?» [Бланшо, 2003, с. 473]. У Бланшо каждое предложение можно начинать с «но». (Но) «знание отодвигает в тень того, кто знает». (Но), не зная, мы потеряем «бескорыстную страсть, сдержанность, незримость» [Бланшо, 2011, с. 272]. И не может быть «и» перед последним членом перечисления — потому что никогда не известно, заканчивается ли оно. В личном пространстве необходимо отказаться от однозначности, к которой тяготеет повседневный, информирующий язык, сообщающий чужое, не личностью найденное. Переориентировать язык на воссоздание содержательной неопределенности, открывая возможность слову стать столь же неопределенным, как реальность. «Выражать только то, что невыразимо. Оставлять его невыраженным» [Бланшо, 2003, с. 460]. Выявлять оттенки существования.

Сходные с литературой языковые средства использует Ж. Деррида, для которого также характерно повышенное внимание к письменному тексту. В первую очередь это внимательность ко всему спектру значений слова. «Расшивка, развязка, отделение, разрешение проблемы, выполнение задачи, исполнение обязанности или долга, возврат залога или заклада, все эти значения слова losen довлеют над текстом» [Деррида, 1999, с. 611]; а bind — это не только связь, но и лента и чемодан с двойным дном. Учитываются все эти значения, слово не приводится к однозначности термина. Например, язык имеется в виду и телесный тоже. «Ты приходила прикоснуться к моему имени кончиком языка. Тот трепет под языком, нежный, медленный, неслышный трепет, которому я предавался лишь на секунду, больше не повторится, конвульсия всего тела одновременно в двух языках…» [Деррида, 1999, с. 15-16]. Так философия получает возможность соприкосновения с опытом тела и предметов.
Многозначность речи является мучением, но одновременно обеспечивает ее защиту. «Мы сами погубили друг друга, сами, ты слышишь? (я представляю себе компьютер подслушивающего пульта, пытающийся перевести или классифицировать эту фразу. Пусть помучается. И мы тоже: так кто же погубил другого, погубив себя сам?)» [Деррида, 1999, с. 33]. Никогда нельзя быть уверенным, что на рассуждение не найдется другое, его отрицающее, что на логику не найдется другая логика. «Кто подписывает все эти разрешения подписывать?» [Деррида, 2002а, с. 39]. Деррида чужд «неискоренимой тупости» и вульгарности философов, основанных «на непоколебимой уверенности: они твердо знают…» [Деррида, 1999, с. 140]. Философия не стремится быть правой («это так грустно — быть правым») [Деррида, 1999, с. 95]. Она стремится быть. Живой в многозначности живого. Деррида говорит о двух истолкованиях, одно из которых пытается расшифровать некую истину, второе — «отвернувшись от начала, утверждает игру». Они несовместимы — но «я не думаю, что сегодня настало время выбирать». Потому что мы находимся «в области, где сама категория выбора выглядит легковесной» [Деррида, 2000, с. 465-466]. Идея неопределенности позволяет не отказываться от рационализма. «Нужно пытаться освободиться от этого языка… Не освободиться от него, поскольку это не имело бы никакого смысла и лишило бы нас всего его света, но сопротивляться ему как можно дольше» [Деррида, 2000, с. 43]. Сохранить, одновременно сопротивляясь, оперируя динамикой и направленностью, а не результатом, абсурдным в своем пределе. «В некоторой мере — но именно об этой мере идет речь — это верно» [Деррида, 2000, с. 12]. Множественность смыслов и языков спасает саму возможность мыслить — так как нет единого языка окончательно истинных формулировок.
Противоречивость и неопределенность являются и необходимым условием пути к Другому. Не говорить о Другом как об объекте — говорить с Другим, обращаясь к нему. «Я должен достичь его как недостижимое <…> неприкосновенное <…> Без посредников и без соучастия, абсолютная близость и отстраненность» [Деррида, 2000, с. 159]. Причем ориентация на неопределенность не исключает точности и честности, а скорее ведет к ним. «Не обещают приехать, обещают иметь намерение приехать и не пренебрегать ничем, что могло бы помочь приехать» [Деррида, 1999, с. 252].
Представляется, что пока неопределенность как языка, так и утверждений не слишком присуща философии в России (хотя характерно, что, например, у А.Ф. Лосева тема неопределенности появляется в работе «Самое само» именно в связи с темой индивидуальности). Наталия Азарова отмечает, что у Якова Друскина средствами языка размывается граница между утверждением и отрицанием (например, «рассуждать не рассуждать»), и структура текста дает возможность приписывания отдельному компоненту высказывания одновременно роли субъекта и объекта, определяющего и определяемого [Азарова, 2010, с. 353]. Но и в ее объемном исследовании таких примеров очень мало. Соответствуют этому и проблемы перевода философских текстов. Татьяна Никишина, анализируя концепцию «ambiguité essentielle», являющуюся одной из основных для Бланшо, отмечает, что это выражение на настоящий момент не имеет устоявшегося перевода на русский язык («основополагающая двусмысленность» в переводе Б.М. Скуратова [Бланшо, 2002, с. 268] и «сущностная двойственность» в переводе Д.Кротовой [Бланшо, 2002, с. 144]) [Никишина, 2014, с. 26-27].
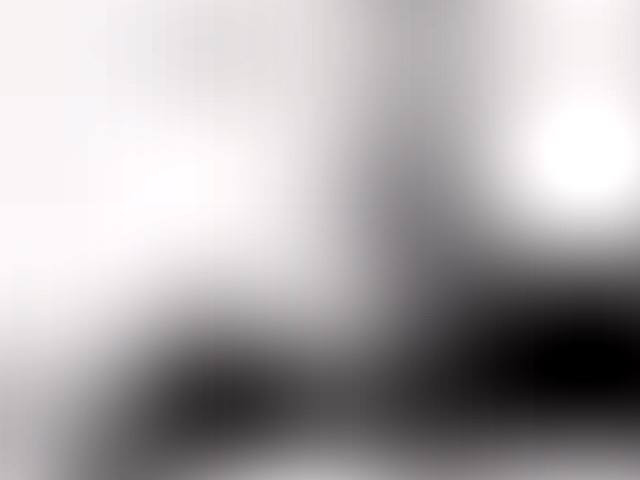
Неопределенность не может быть присвоена, но может быть освоена — способами жить в ней и с ней. В литературе — и философии совместно с ней — открывается пространство неполноты, мерцания одновременного наличия и отсутствия, свободы неокончательного. Не уничтожать неопределенность, не определять и не «определяться», уничтожая возможности, не успокаиваться на однозначности объяснения, а понять неопределенность как основу существования.
Библиография
Азарова Н.М. Язык философии и язык поэзии — движение навстречу. М.: Логос/Гнозис, 2010. — 496 с.
Анненский И.Ф. Избранное. М.: Правда, 1987. — 592 с.
Башляр Г. Грезы о воздухе. Пер. с фр. Б.М. Скуратова. М.: Издательство гуманитарной литературы, 1999. — 344 с.
Бланшо М. Пространство литературы. Пер. с фр. Б.В. Дубина, С.Н. Зенкина, Д.Кротовой, В.П. Большакова, Ст. Офертаса, Б.М. Скуратова. М.: Логос, 2002. — 288 с.
Бланшо М. Рассказ? Пер. с фр. В. Лапицкого. СПб.: Академический проект, 2003. — 574 с.
Бланшо М. Говорить — совсем не то, что видеть. Пер. с фр. В. Лапицкого // Новое литературное обозрение, 2011, 2 (108), С. 272-280.
Бонфуа И. Невероятное (избранные эссе). Пер. с фр. М. Гринберга и Б. Дубина. М.: Carte Blanche, 1998. — 256 с.
Глазова А. Текучий образ в поэзии Аркадия Драгомощенко // Новое литературное обозрение, 2013, 3(121), С. 258-266.
Деррида Ж. О почтовой открытке от Сократа до Фрейда и не только. Пер. с фр. Г.А. Михалкович. Мн.: Современный литератор, 1999. — 832 с.
Деррида Ж. Письмо и различие. Пер. с фр. Д.Ю. Кралечкина. М.: Академический проект, 2000. — 495 с.
Деррида Ж. Ухобиографии. Пер. с фр. В. Лапицкого. СПб.: Академический проект, 2002а. — 106 с.
Деррида Ж. Шибболет. Пер. с фр. В. Лапицкого. СПб.: Академический проект, 2002 б. — 166 с.
Драгомощенко А.Т. Описание. СПб.: Издательский центр «Гуманитарная академия», 2000. — 384 с.
Драгомощенко А.Т. На берегах исключенной реки. М.: ОГИ, 2005. — 80 с.
Драгомощенко А.Т. Тавтология. М.: Новое литературное обозрение, 2011. — 456 с.
Драгомощенко А.Т. Устранение неизвестного. М.: Новое литературное обозрение, 2013. — 416 с.
Кривулин В. Обращение. Л.: 1990. — 72 с.
Нанси, Ж.-Л. Сегодня. Пер. с англ. Е.Петровской // Ad Marginem’93. Ежегодник Лаборатории постклассических исследований Института Российской Академии наук. М.: Ad Marginem, 1994. — СС. 148 — 164.
Никишина Т. Ю. Литературное творчество Мориса Бланшо: Неустойчивость «повествовательного голоса» как художественный принцип: дис. … канд. фил. Наук: 10.01.03 . Самара, 2014. — 228 с.
Рильке Р.М. Переписка с Мариной Цветаевой. Пер. с нем., комментарии Н.Болдырева. Челябинск, 2013. — 264 с.
Фрагменты ранних греческих философов. Ч 1, М.: Наука, 1989. — 576 с.
Ямпольский М. Поэтика касания // Драгомощенко А.Т. Описания. СПб.: Издательский центр «Гуманитарная академия», 2000. — 384 с.
