Лев Оборин. Книга «О Родине» как книга о Родине
В воскресенье будет объявлен лауреат ежегодной поэтической премии «Различие». Мы публикуем статью Льва Оборина из сборника теоретических материалов о лауреате минувшего года, поэте Олеге Юрьеве.
Существует нечто с трудом определяемое, что свойственно стихам поэтов круга «Камеры хранения» при всей их различности. За неимением лучших слов можно охарактеризовать это как
Ответ на вопрос о том, откуда дополнительная энергия берется, в каждом случае будет разным. Но в случае Олега Юрьева можно сказать, что она появляется благодаря умению взять из прошлого — в самом широком смысле — самое живое и живительное.
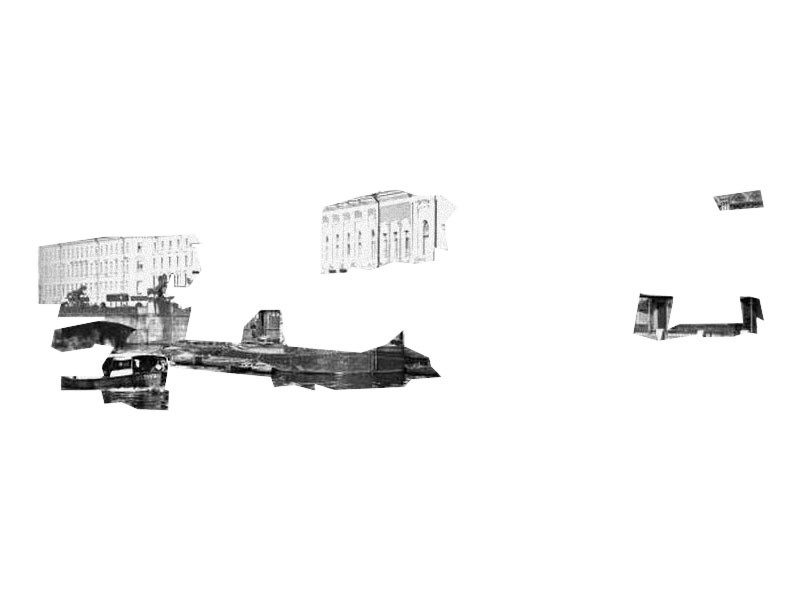
Технически виртуозная поэзия Юрьева обращена к прошлому — как на уровне манифестарном (жанровые обозначения «хоры» и «песеньки»; «перечень стихов» вместо «содержание» в конце книги), так и на уровне структурном. Важнейшее качество текств Юрьева — связность, умение сочетать сложность синтаксиса с абсолютной строгостью формы и внятностью сообщения; казалось бы, это умение в современной поэзии не в чести, хотя на самом деле оно просто почти совсем утрачено; оно идет к Юрьеву от таких поэтов, как Ходасевич, Бродский, Лосев, Евгений Хорват (каковы бы ни были отношения между ними — мы знаем, например, что Хорват Ходасевича не любил) — и продолжается в юрьевских соратниках, таких как Игорь Булатовский, который этот навык почти до предела усложняет (а у Алексея Порвина, например, он переходит в новое качество и уже не имеет отношения к конвенциональной речи).
Думается, не в последнюю очередь эта связность происходит от верности (приученности к?) стержневому — от строгого концептуального мышления, которое отличает и эссеистику Юрьева. Я не намерен подробно говорить здесь о книгах «Заполненные зияния» и «Писатель как сотоварищ по выживанию»: сборник «О Родине» самодостаточен и без них, но они все же могут задать для его рассмотрения определенный угол зрения. Из двух этих собраний эссе явствует, что для Юрьева общее или даже «надобщностное» (культура, история, дух времени, дух стиха — см. его соображения о «звуке» и «дыхании» поэзии) говорят через частное (людей, поэтов). Думается, поэтому для него, при всей разности и поэтики, и литературной стратегии, важен Бродский с его уверенностью — по крайней мере манифестируемой — в том, что поэт есть орудие языка. Юрьев не раз говорит о поэтах как о медиумах; он сам мыслит себя в числе таких медиумов, попавших в уникальные для русской истории/поэзии условия: «таких, как мы, — рожденных в аквариуме, но умудрившихся дать деру, когда, при очередной смене воды, нас пересаживали в банку» . Идея медиума для него ключевая:
И даже смерть любимыми стихами
Сквозь полотенца говорит.
Из мистической метафоры эта идея может превратиться в почти «научную» уверенность:
Можно воспринимать это как образ… но теперь я всё чаще думаю о том, что «тот язык», «та культура» действительно, то есть на
Двойственность этого положения налицо. В ее свете, как мне кажется, можно понимать и книгу «О Родине».
Собственно, при подробном размышлении о концепции поэта как медиума культуры («первой», главной, или «второй» — невзирая на осуждаемую Юрьевым терминологическую путаницу) возникает соблазн считать и стихи Юрьева программными — то есть осознанно стремящимися подтверждать свою принадлежность к высокой петербургской культуре; стихи обязаны быть тем самым «патентом на благородство», о котором так часто пишет Юрьев в своей эссеистике. Но это, конечно, не так: Юрьеву чужд конъюнктурный техницизм. Вспомним, что говорилось в самом начале о тайной силе «самоподзавода» этих стихов. Однако же для такого энергетического усилия требуется топливо. И я склонен считать, что это топливо — личная мысль об истории, об эпохе, которую удалось прожить «дрейфуя» и сохранив чувство двойственной родины, дорогой и отталкивающей. В своем интервью премии «Различие» Юрьев говорит: «Думаю, у кого есть “прошлая Родина”, у того нет “всегдашней”, да и вообще никакой. Несколько вещей, перечисленных в эпиграфе к набоковскому “Дару”, я знаю твердо: “Роза — цветок. Олень — животное. Воробей — птица. Россия — наше отечество. Смерть неизбежна”. Россия — мое отечество, отечество моего языка, и все, что относится к историческому существованию этой страны и этого языка, может прийти ко мне стихами» .
И здесь я оставляю прочие книги Юрьева и остаюсь наедине с книгой «О Родине».
Книга «О Родине», несмотря на то что стихи в ней расположены, за несколькими исключениями, в хронологическом порядке, производит впечатление тщательно выстроенной; это хроника перемещений — путешествий от одного образа Родины к другому, с развернутыми описаниями и точными эпитетами. Родина здесь предстает прошлым Петербургом-из-сна, воздушным городом, куда и вернуться можно по воздуху: «…туда и полетим, где мостовые стыки / сверкают на заре, как мертвые штыки…» , «Был город, который почти улетел, / Стал дутыми гроздами облачных тел, / Перетек в темноты колоннады…» ; прошлым Ленинградом-из-детства: «Я был когда-то маленький, / Насупленный и хороший, / С Кузнечного рынка валенки, / Из ДЛТ галоши» ; европейской культурой и географией («Осень во Франкфурте», «Я был во Фьезоле»); наконец, вечными проблемами идентификации. Родина в стихах Олега Юрьева требует дефиниции и все время от нее ускользает:
Это родина — тьма у виска,
Это родина — здесь и нигде,
Это ближнего блеска войска
Погибают в колодной воде,
Но загранного неба луна
Над колодой стоит с булавой —
Эта родина тоже одна,
И уйти бы в нее с головой.
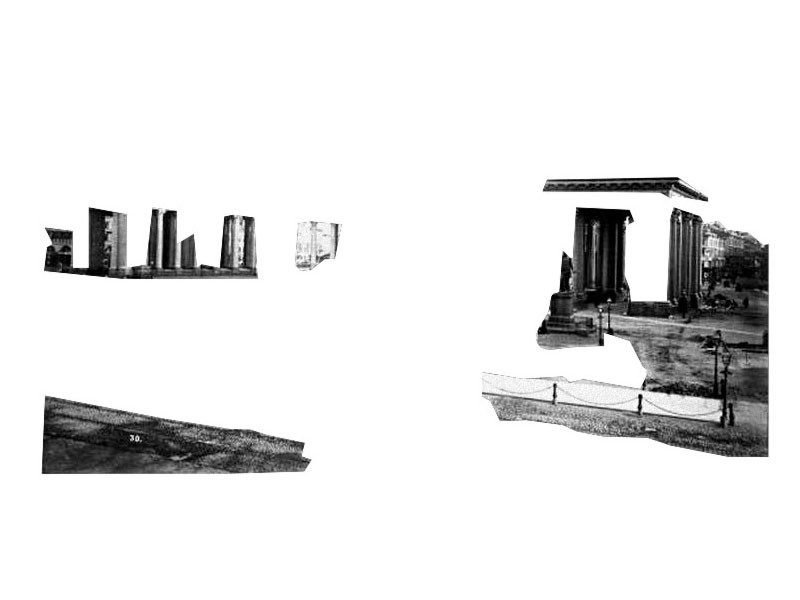
Родина, таким образом, темна, неопределима; она, под настороженным наблюдением иного мира, поглощает свет и заманивает в себя (что-то вроде черчиллевской «головоломки, завернутой в загадку и упакованной в тайну»). Но одному «Стихотворению о Родине» тут же отвечает другое:
Это родина — свет на щеке,
Это запах подушки сырой
И стрекочущий ток на щитке
За дырой, за норой, под горой,
Но сохранного неба луна
Наливает в колоду свой воск.
Эта родина тоже одна.
— И последняя родина войск .
Это уже родина частных ощущений и дорогих воспоминаний; иной мир уже не стоит над ней с булавой, не воспринимается как часовой или потенциальный враг (а то и палач), но становится ее частью. Именно эту родину, вероятно, вспоминают в свой последний миг погибающие. И каждая из этих родин — только одна.
Отметим, что, как и в этом двойном стихотворении, в книге Юрьева везде видна структурированность: в глубоких рифмах и параллелизмах («мостовые стыки — мертвые штыки», «мокла табачная пакля… бухла небесная капля», «розы а́нглийские мокнут… звезды ангельские блекнут»); в двойной системе хоров и «песенек», по-разному работающих с одними образами («Хор на розы и звезды» — «Песенька о розах и звездах»). Упорядоченность и диалогичность, как ни странно, работает на амбивалентность — как в том же «Хоре на розы и звезды», где розы удушливо пахнут мелодиями советской эстрады, а звезды несутся по небу, как гениальные советские хоккеисты. Хор, как указывает Юрьев в интервью по случаю присуждения ему премии «Различие», «есть диалог, чаще всего небесконфликтный» ; но подобно тому, как на вопрос одного полухория всегда дается ответ другого (и разрешение диалога в эподе не снимает конфликтности), «тезису» тревожных стихов Юрьева отвечает «антитезис» стихов удивительно счастливых — по-другому их не назовешь. Мучительному запаху роз противопоставлен блаженный «сладкий смрад» акаций. Они, эти стихи, свидетельствуют о достоинстве самодостаточности, и хотя слово «родина» в них не звучит ни разу, для нашего разговора они очень важны:
Мы вышли и́з дому, был город странно пуст
И небывало тих — лишь осторожный хруст
Наших шагов по гравию аллеи
Висел, не двигаясь. И был закат алее
Себя, горящего в последних стеклах дня.
И догадался я, что это для меня:
Сирени вялые, как спящих сонм голубок,
И розы, вырезанные из гигантских губок,
Блаженством душащий акаций сладкий смрад —
Все это был мой рай. И я тому был рад,
Что мне до срока был он — для чего? — показан:
Любимой улицей под падубом и вязом
Идти с тобой вдвоем всю вечность дотемна… —
Так вот какая жизнь мне может быть дана .

Наивно понимать эти стихи как простое описание прогулки по немецкому городу. Идиллическая прогулка с возлюбленной по обетованному раю напоминает о Филемоне и Бавкиде, а еще больше — о Мастере и Маргарите, идущих в последней главе романа к своему «вечному приюту». Идея «своего» приюта, частного рая («мой рай») — вполне эскапистская, светская, противоречащая религиозной соборности, — соотносится — на фоне поэзии Юрьева это поначалу шокирующая мысль — с концепцией «малой родины». Этот советский лексический штамп способен увести далеко, вплоть до песни «С чего начинается Родина?», искусно выводящей частные сантименты на тропу политического. На самом деле такое соположение не должно шокировать: Юрьев умело работает с советскими топосами и цитатами — даже в стихотворении «Был город…» первая строка «Был город, который почти улетел…» отчетливо напоминает о первой строке знаменитой советской песни «У Черного моря» : «Есть город, который я вижу во сне…» Город, заметим, «в цветущих акациях»!
Возвращаясь к юрьевским акациям: в случае процитированного выше стихотворения речь, разумеется, идет о родине идеальной, небесной — эйдосе, моделью которого выступает «небывало» тихий город. Парадокс в том, что таких идеальных родин может быть много — по крайней мере, больше чем одна, и доступ к ним возможен в любом состоянии, кроме реального переживания: в сновидении, в воспоминании; стихотворение «Мы вышли из дому…» остается единственным примером «прямого контакта»; не сделал ли его возможным факт смены географического положения? В том же «Был город…» есть место, напрямую перекликающееся с «Мы вышли из дому…»: «Мы из дому вышли, он еще был — / В подшерсток деревьев вмерзающий пыл, / И сизые контуры рая…» Но здесь рай уловить еще не удается: «Но чуть оглянулись — пространства пусты…» Стихотворение это, написанное на два месяца раньше, явно описывает «предыдущую попытку», почти удавшуюся, но спугнутую — возможно, именно желанием уловить, присвоить эту родину-рай: «Но чуть оглянулись…» — так Эвридика навсегда покидает Орфея, стоит тому обернуться.
Стихотворение «Мы вышли из дому…», где нет слова «родина», впрочем, принадлежит к циклу «Шесть стихотворений без одного», и в остальных текстах цикла это слово встречается не раз. Цикл открывается стихотворением, состоящим из одних отточий. Судя по их конфигурации, на их месте должны были стоять два четверостишия. В контексте всего цикла здесь уместно выглядело бы уже упоминавшееся стихотворение «Туда и полетим…»: обозначающее тему стремления / нереального полета, оно могло бы предварять второй текст:
Слетай на родину, — я ласточке скажу, —
Где Аронзонов жук взбегает по ножу
В неопалимое сгорание заката,
И Вольфа гусеница к листику салата
Небритой прижимается щекой,
И ломоносовский кузнечик над рекой
Звонит в сияющую царскую монету;
Ты можешь склюнуть их, но голода там нету,
Там плачут и поют, и кто во что горазд,
И Лены воробей того тебе не даст .
Это стихотворение выглядит вполне прозрачным: перечисляются приметы Ленинграда, навсегда связанные с важными для Юрьева поэтами и прозаиками; фигура Ломоносова будто освящает весь ряд. Каждому поэту назначено животное («Дайте Тютчеву стрекозу…») — аллегория-принадлежность (и эти животные действительно встречаются в стихах этих поэтов). Классическим кузнечику и воробью здесь добавляются в гораздо меньшей степени освященные поэтической традицией жук и гусеница, себе же говорящий — в данном случае именно Юрьев, творящий свою маленькую элегию, — назначает ласточку. Ласточка в начале и воробей в конце закольцовываются, отсылая к строке Ходасевича «Где с воробьем Катулл и с ласточкой Державин» из стихотворения «Памяти кота Мурра». Ходасевич в этом стихотворении упоминает райские «сады за огненной рекой», в которые он летит «мечтой приверженной»; так и Юрьев отправляет ласточку-душу с разведкой на нереальную и в то же время реальнейшую родину прошлого, созданную стихами предшественников и друзей, напоминающую о себе постоянно (например, в других стихотворениях цикла, цитатами — от Державина или Ахматовой до «Гопа со смыком»). Онейрический полет к этой обетованной родине — сквозной сюжет цикла: это полет продолжается и во втором стихотворении, чтобы в третьем вдруг остановиться, свалиться в пике:
О чем, о родине? О тайном свете моря?
О тайной тьме реки? О выговоре горя
В бесстрастном шопоте оцепленных садов?
О вздохах в глубине погашенных судов,
Которым снятся сны ужасные? Об этой
Печальной родине, льдом облачным согретой?
Я больше не о ней — ты знаешь почему:
Иную родину возьму с собой во тьму…
…О ком, о родине?
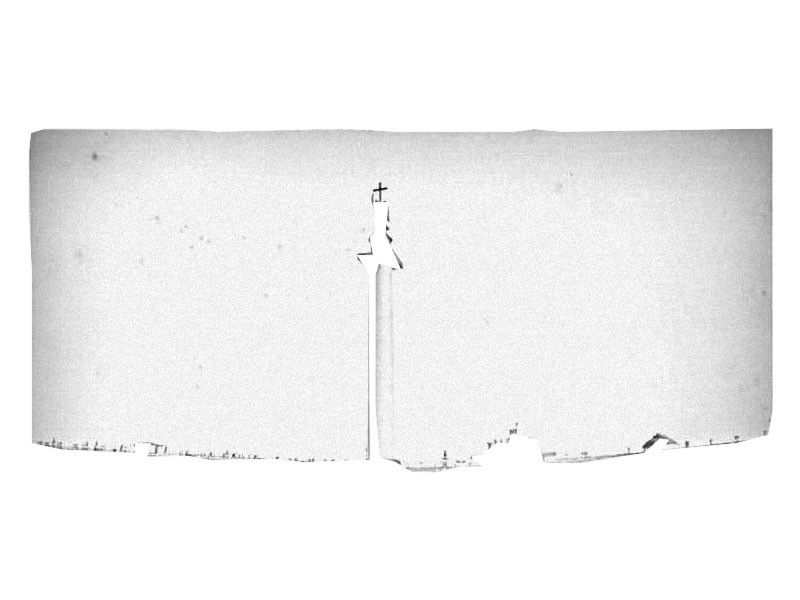
Настойчивые вопросы этого стихотворения — как бы скептическая реакция на затактовое заявление («Я говорю о родине», «Книга называется “О Родинеˮ» и т.д.). Отрицание возможности говорить о родине превращается как раз в такой разговор: перечисляются ее определения, одновременно вполне общие и частные. Та, «иная» родина, которую можно «взять с собой во тьму», предвосхищенный «мой рай» из после — не общая, а индивидуальная, она не «что», а «кто» («О ком, о родине?»). Прерванное стихотворение — внезапное пробуждение, явленное в следующем тексте цикла: «Ты просыпаешься, когда от тиса хрящик…», а после него уже следует прогулка по «моему раю» (шестое стихотворение, разобранное выше).
Предположение о том, что для поэта родина — это родная словесность, довольно банально. Вопрос глубже, чем может показаться. Мы уже говорили о двухчастных «Стихах о Родине» («Эта родина — тьма у виска…») и замечали, что они, как и вся книга, четко структурированы; эта структурированность у Юрьева увязана с жанром хоров, то есть поэтических диалогов. Легко заметить, что хор может действовать на метауровне: диалог происходит не только внутри одного стихотворения, но и между разнесенными внутри книги текстами. Еще один, самый разительный, пример такой переклички — отзыв на «Стихи о родине» «Стихов о родине (2)». Вместо «моей» родины здесь появляется «наша».
Наша родина — вода.
Ее черпают невода,
Вычерпывают неводы.
Мы живем на дне воды.
Наша родина — земля.
Ее, корнями шевеля,
Жрет ночное дерево.
Мы заходим в дверь его.
Здесь нельзя не вспомнить приведенную выше цитату об аквариуме, из которого рыбки умудрились сбежать при перемене воды, но разница существенна: легко понять, что неводом ничего вычерпать нельзя, и как бы ни прижиматься ко дну, это, по сути, необязательно: среда (вода) неисчерпаема. Строку «Наша родина — земля» можно прочесть двояко; на слух «земля» воспринимается и как «планета» (и тут представляется картинка из «Маленького принца» Экзюпери — крохотная планета, «сожранная» тремя гигантскими баобабами), но графика стихотворения и противопоставление «воде» убеждает, что речь идет именно о «земле» — почве. Придонные рыбы, подземные черви и насекомые, переползающие из почвы на дерево («в дверь его» — дупло, червоточину?) — это персонажи, которых называют хтоническими, и слово «родина» здесь нужно понимать на буквальном этимологическом уровне: порождающая стихия, среда, из которой, как у Аристотеля, берут начало низшие животные. Человек — часть бесконечной физиологичной природы. Круговорота жизни и смерти в этой среде, как у Заболоцкого в «Лодейникове», бесконечен, природа, как у Пушкина, равнодушна (или как у раннего Юрьева же: «Чьи же твердые слезы / (Зрачки равнодушно-во́стры) / Смотрят черно и мимо? // — ВАШИ, РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ»; еще ближе, из того же четырехчастного стихотворения 1988 года: «Какие здесь живут зверьки, / Свистя горошинками в горлах… <… > / Внизу бесстрастная возня: / Чужая жизнь, касанья, тени…»). Эти мотивы по остаточному принципу переносятся в следующий фрагмент «Стихов о родине (2)»:
Наша родина — кино,
Где и сыро, и темно,
И на стенном квадратике
Падают солдатики
В реку, черную, как кровь.
Ты слегка сдвигаешь бровь:
— Это наша родина?
— Это наша родина.
Тьма и сырость пришли из предыдущего текста; солдатики, падающие в реку, — отклик на «ближнего блеска войска» (вот что такое «ближний блеск» — кадры на киноэкране в темном зале), которые «погибают в колодной воде» (почему «колодной»? здесь, очевидно, игра слов, контаминация «холодной» и «колоды», одного из синонимов «гроба»). И вновь скепсис собеседницы: «Это наша родина?»; говорящему остается только подтвердить. Ситуация выглядела бы совершенно безнадежной, если бы не было третьего фрагмента, в котором кинематографическая метафора раздваивается: она и описывает происходящее на экране («На стене горит река»), и драматизирует — по закону катарсиса? — отношения героев, смотрящих это кино («У губ моих твоя рука / Без перстней и без колец…»). Финальная строка, отсылающая к киношному «Продолжение следует», сообщает: «…Но вроде и это не конец». Что означает надежду и для действующих лиц фильма (а то и для среды), и для смотрящих этот фильм. «Стихи о родине» не обозначены Юрьевым как хор, но трудно отделаться от ощущения, что третий их фрагмент — эпод, разрешающий конфликт.

У читателя, следившего за русской поэзией последних десятилетий, название книги Олега Юрьева вызывает в памяти «Стихи о Родине» Станислава Львовского. Но эти книги противоположны: может быть, у Львовского, в чьем письме начала 2000-х исповедальность смешивается с фиксацией социальных неврозов и постановкой диагнозов, такое название оправданнее. Юрьевский разговор «о Родине», как мы уже убедились, постоянно избегает фиксации; вода и рыбы не случайно в этих стихах частые образы. Показательно сравнить «О родине» Юрьева не с Львовским, а с недавней поэмой «Родина» Игоря Булатовского — автора, как мы помним, круга «Камеры хранения». В этой поэме в первую очередь обращает на себя внимание ее формальное устройство: длинные строки, зарифмованные по схеме abc abc, производят впечатление монументальности, которое приличествует лироэпическому рассказу о родине скорее как о времени, чем о месте, скорее о прошлом, чем о настоящем: тут можно провести параллели с хорошо знакомой Булатовскому польской поэзией, «Паном Тадеушем» Мицкевича и отталкивающихся от него «Двенадцати остановках» Томаша Ружицкого. Родина Булатовского — череда эпизодов-воспоминаний, тех, что не определяют судьбу, но запоминаются именно потому, что служат характерными иллюстрациями к человеческой жизни. Эти эпизоды умением Булатовского связаны в цельное полотно, и родина проникает здесь сквозь прорехи — обстановкой, знакомствами, запахами, деталями, семейной хроникой. Для Булатовского речь может идти только о частном переживании, о человеке, фоном для которого служат времена, места и истории, и лишь название поэмы смещает фокус, заставляя подумать, что этот-то фон и важен. В книге Юрьева родина остается метафизически неопределенной, но при этом притяжение заглавия крайне сильно. Родина — не страна, не время, а порождающая среда, которая, разумеется, связана со страной и временем различными нитями и дорогами, в том числе и многократно хожеными дорогами литературных сантиментов (последнее утверждение ни в коей мере не будет упреком, коль скоро Юрьев неустанно подчеркивает свою связь с поэтической традицией). Идея этой среды, в которую погружено все остальное, становится чем-то вроде все объясняющего эфира. С той лишь разницей, что эфира, как выяснили физики, не существует, а существование этой среды, ее паров, отрицать невозможно.
[Автор коллажей — Андрей Черкасов. Материалы для фотоколлажей позаимствованы из humus.livejournal.com]
