Марина Симакова. Что такое поэтическое?
Предлагаем вашему вниманию пропедевтическое эссе Марины Симаковой о поиске поэтического смысла. Текст был прочитан в виде ознакомительной лекции в рамках «Мастерской поэтического действования» под руководством Кети Чухров и Ольги Широкоступ.
Для начала хочется выступить с предупреждением и на всякий случай оговориться, что данная лекция не касается поэзии как таковой. Нам не удастся в очередной раз поспорить о том, чем поэзия отличается от прозы и разобраться в жанровых критериях. Наш разговор также практически не будет касаться непосредственно поэтики — дисциплины, изучающей законы, по которым работает литература. В центре нашего внимания окажутся некоторые попытки рассуждать о том пространстве, в котором присутствует смысл всего, что связано с поэзией, поэтическим языком, поэтическим мышлением и поэтическим опытом. Эти попытки могут показаться скромными или дерзкими, но, так или иначе, они позволяют сориентироваться среди философских вопросов о поэзии, поставленных в разные периоды ХХ-го века. Эти вопросы далеко не всегда совпадают с внутрицеховой поэтической повесткой — теми темами, которые обсуждаются на литературных встречах, занимают литераторов, разрабатываются критиками и литературоведами. Вопросы, которые интересуют философов сходятся в одной точке — точке присутствия поэтического элемента, той минимальной прибавки смысла, которая делает то, с чем мы сталкиваемся, поэтическим. Поэтическим бывает не только стихотворение и не только текст: бывает поэтический визуальный ряд, поэтическое с легкостью возникает в кино, в театре, в обыденной жизни. Можно запросто обнаружить поэзию в прозе Уильяма Фолкнера, философии Сёрена Кьеркегора, эссеистике Вальтера Беньямина, в фильмах Пьера Паоло Пазолини и Алена Кавалье. Можно найти ее в театре, даже, к примеру, у модного нынче режиссера Ивана Вырыпаева. Кто-то сталкивается с поэтическим во время прочтения религиозных текстов, а
Иногда можно услышать рассуждения о поэтическом мышлении, которое характеризуется неполнотой смысла. Подобные рассуждения часто оборачиваются традиционным обвинением поэтов в расщеплении смысла, в комбинации нескольких типов рациональности, в работе с неясностью, полифоничностью, двусмысленностью: неслучайно Платон не видел поэтов в своем Государстве. Эта неполнота во многом обязана метафоре, а также прочим литературными приемам. Метафора и ее устройство будоражили многие умы на протяжении столетий. Если говорить о других приемах, то, например, Вальтер Беньямин был полностью одержим темой аллегории и посвятил немало страниц работе над ее философскими основаниями (многие из его интуиций на эту тему широко представлены в книге заметок и набросков «Центральный парк»). Понятно, что метафоры, аллегории и прочие тропы не просто населяют произведение, но и само произведение или поэтический текст может быть метафорой или аллегорией. К знаковым произведениям-аллегориям можно отнести, например, «Божественную комедию». Если же вспомнить древние мифы, песни и сказания, то они всегда содержали в себе мировоззрение и философское рассуждение, будучи аллегорией философии. Мы можем предположить, что существует нечто, указывающее на поэтический характер происходящего — речи, театра, кино; что есть некий поэтический знак.
В те времена, когда поэзию (и все прочее искусство) мыслили миметически, то есть как подражание реальности, поэт — производитель поэтического — представлялся, как ни парадоксально, выдумщиком, сочинителем историй и образов, и даже сочинителем самого языка. Сегодня нам очевидно, что тогдашний поэт не выдумывал язык, а пользовался тем языком, на котором говорили люди. Строго говоря, поэтическое всегда находится внутри языка говорения. Так современный французский философ Жак Рансьер в своей работе «Эстетическое бессознательное» замечает, что «Гомер вопреки своей славе вовсе не сочинитель красивых метафор и блистательных образов. Он просто-напросто жил в те времена, когда мысль не отделялась от образа, как и абстрактное от конкретного. Его «образы» — не что иное, как манера изъясняться людей его эпохи. И, наконец, он не сочинитель ритмов и размеров, а всего лишь свидетель того состояния языка, когда речь была тождественна пению» .
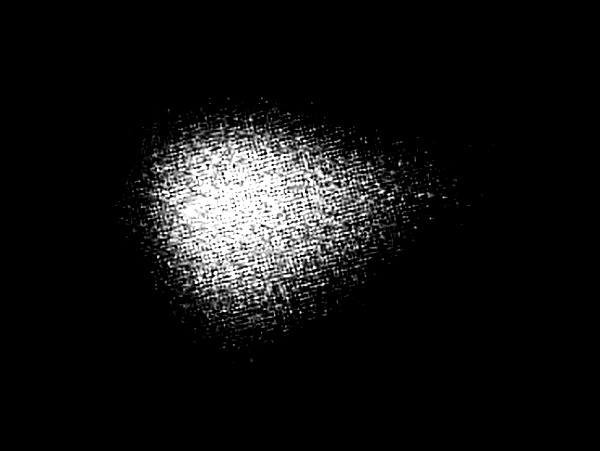
Неслучайно поэзия Вергилия и Петрарки, Данте и Бокаччо, Франсуа Рабле, Уильяма Шекспира и, конечно, менестрелей и трубадуров при разной степени соотнесенности с идеей божественного, были повернуты к человеку и его страстям, вписанным в существование мира во всей его материальности. Однако никому из них не пришло бы в голову эту материальность рефлексировать: для подобной рефлексии с ней необходимо порвать. В этой связи имеет смысл совершить широкий прыжок от античной эпохи к немецкому романтизму, в котором неизбежно возникает тема поэтического идеализма: разрыв с материальной реальностью, невозможность ее затронуть с помощью поэтического. Поэтическое тело воспаряет ввысь до состояния невероятной абстракции, а абстрактное мышление и чувственное восприятие буквально уравниваются. Здесь можно вспомнить фигуру И.В. Гете, который говорил, что «видит идеи глазами». Тогдашнее представление о поэтическом предполагало зримость идеи в образе, где образ — непосредственное впечатление чувственности. Так способность мышления и созерцания совпадали.
Неслучайно Мартин Хайдеггер тосковал по Германии Гете, по невыразимому смыслу вещей; тот самый Хайдеггер, славящий античных мастеров, говорил о единстве поэтического и философского мышления, о том, что истина утверждается и проявляется как поэзия, и о том, что «всякое искусство является в сущностном смысле поэмой (Dichtung)». В своей знаменитой лекции «Язык говорит» Хайдеггер рассуждал, что «В говоре поэта пребывает язык. Это язык языка. Язык говорит. Он говорит тем, что называемое мир-вещь и
Как же стоит интерпретировать это хайдеггеровское «язык говорит»? Филипп Лаку-Лабарт пишет о том, что, по Хайдеггеру, мысль об истории связана с мыслью об искусстве, с поэзией, — и задается вопросом о том, что дает поэзии историческую или политическую власть. На этот вопрос предлагается два ответа. Первый выводится из знаменитого хайдеггеровского утверждения «язык — дом бытия» и сводится к тому, что поэзия — это суть языка, именно через поэзию бытие первоначально заявляет о себе. Второй ответ заключается в следующем: поэтическое — это пространство, в котором ведется спор о возможности или невозможности Бога, то есть пространство полемики, а значит и политической борьбы. Такое понимание поэзии есть понимание через миф, через мифопоэтическую структуру мира и языка. В этом смысле история, как и политика, мыслится как мифология, сказание. Подобного рода смешение поэтики и политики, свойственное Хайдеггеру, привело к так называемой эстетизации политики. Именно ее вскоре разоблачил Вальтер Беньямин в послесловии к своему программному эссе «Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости». Эстетизация политики, по Беньямину, напрямую связана с фашизмом, с переживанием эстетического наслаждения от самоуничтожения. Эстетизации политики в свою очередь противостоит политизация искусства, которую сам Беньямин, разумеется, связывал с коммунизмом.
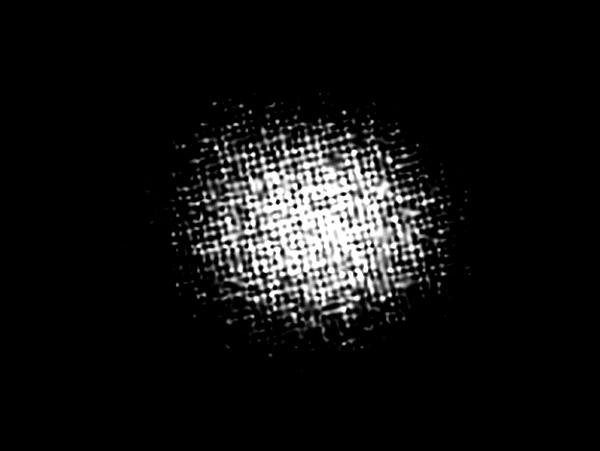
При разговоре о мифе невозможно не вспомнить о фигуре Ролана Барта. Рассуждая о поэзии, Барт обличает обывательское стремление видеть в поэзии лишь ее элегическую составляющую, набор «находок», загадку, сентиментальность и образность. Поэтический знак для Барта, скорее, указывает на вещь, но ни в коем случае не является ею. Он пишет следующее: «Все наши комментаторы сходятся между собой в мысли о самодостаточности Поэзии: для всех них Поэзия — это непрерывная цепь находок (так они в простоте душевной именуют метафору). Чем более в стихотворении «образов», тем более удачным оно считается. А между тем лишь слабые поэты создают «живописные» образы или, по крайней мере, не создают ничего кроме них: весьма наивно они воспринимают поэтический язык как некую сумму солидных вербальных капиталов; убежденные в том, что поэзия есть средство выражения ирреального, они полагают, что всякий предмет во что бы то ни стало требует перевода, то есть перехода от его определения в словаре «Ларусс» к его метафорическому обозначению; получается, что для поэтизации предмета достаточно назвать его не своим именем» . Поэтический язык, согласно Барту, сопротивляется мифологизации, но здесь стоит уточнить, что французский философ в первую очередь говорил о языке современной ему поэзии. Классическая поэзия — та самая поэзия, о которой писал Хайдеггер (вернее, то, что он называл поэзией) есть мифологическая система, в которой на смысл «налагается дополнительное означаемое — правильность». По Барту, поэзия (современная поэзия) стремится вернуться от знаков (то есть от смысла слов) к смыслу самих вещей, не выдумать, не сформировать, а деформировать образы: «Отсюда эссенциалистские амбиции поэзии, ее убежденность в том, что только она может уловить смысл вещи самой по себе, причем именно в той мере, в какой она, поэзия, претендует на то, чтобы быть антиязыком. В общем, можно сказать, что из всех пользующихся языком поэты менее всего формалисты, ибо только они полагают, что смысл слов — всего лишь форма, которая ни в коей мере не может удовлетворить их как реалистов, занимающихся самими вещами. По этой причине современная поэзия всегда выступает в роли убийцы языка, представляет собой некий пространственный, конкретно-чувственный аналог молчания. Поэзия противоположна мифу; миф — это семиологическая система, претендующая на то, чтобы превратиться в систему фактов; поэзия — это семиологическая система, стремящаяся редуцироваться до системы сущностей» . Так Барт одновременно освобождает поэзию и от формы, и от политической нагрузки, как бы исключая возможную связь поэзии и ее ангажированости, ангажированности самого поэтического усилия. Можно увидеть в этом постмодернистский ход, в основе которого лежит некоторый релятивизм, попытка увидеть мир как систему знаков вне моральных установок, редуцировать все этические системы разом (к этому подводит факт того, что Барт все время говорит о множественности значений, о том, что язык, в особенности язык литературный, это поле огромного количества смыслов, что для этого языка характерна многосмысленность). Однако более уместно рассматривать такой подход как следствие семиотической и структуралистской оптики: «Мне кажется, что эта трудность характерна для нашей эпохи; сегодня мы можем пока выбирать только из двух одинаково односторонних методов: или постулировать существование абсолютно проницаемой для истории реальности и заниматься идеологизацией или же, наоборот, постулировать существование реальности, в конечном счете непроницаемой и не поддающейся никакому анализу, и в этом случае заниматься поэтизацией. Одним словом, пока я не вижу возможности синтезировать идеологию и поэзию (поэзию я понимаю в очень общем смысле как поиск неотчужденного смысла вещей)» . В отличие от Хайдеггера у Барта поэзия не обнаруживает истину и даже не ставит ее под вопрос: она ставит под вопрос само существование истины. Барт все время разводит поэтическое и дискурсивное слово, пишет о том, что у самого письма есть две функции — критическая и поэтическая (причем часто объектом критики в современной ситуации у Барта оказывается сам язык), в то время как мы попробуем увидеть их как нечто единое, обнаружить критическую потенцию поэтического.
Еще одно важное имя при разговоре о поэтическом — французский исследователь литературы Морис Бланшо. Он много писал о художественном слове, об интимных отношениях, возникающих у автора с литературой. Отличительной особенностью поэтической теории Бланшо является связь поэзии с переживанием ужаса одиночества, покинутости, забвения. Его поэт — это герой-одиночка, склонивший голову перед властью поэтического слова, завороженный загадкой поэзии. С одной стороны, он не дерзает ее разгадать, разоблачить, а с другой — страдает то ли от невозможности финальной разгадки, то ли от собственной позы, мучимый собственным смирением. Подобного рода поэтическое воплощает все необузданное и непокоренное, поэтическое — это пространство невозможного. «Язык поэзии — никогда не язык национального наследия, не мечта об отвлеченной или окончательной всеобщности, а упрямый разрыв Слова со всем сказанным прежде, без которого оно не могло бы даже молчать» . Здесь тоже угадывается полемика с Хайдеггером и одновременно отрицание всякой историчности и ангажированности. Поэтический опыт — это опыт персональный, частный, в котором субъект лицом к лицу сталкивается с опасностью, страстью, неистовством. Бланшо видит загадку поэзии в ее двойственности: полном ниспровержении, устранении, тотальной аннигиляции автора, его жалкой слабости перед мощью поэтического слова, и одновременно в его становлении, становлении его бытия как автора, свершенном благодаря соприкосновению/многократной попытке распоряжаться поэзией.
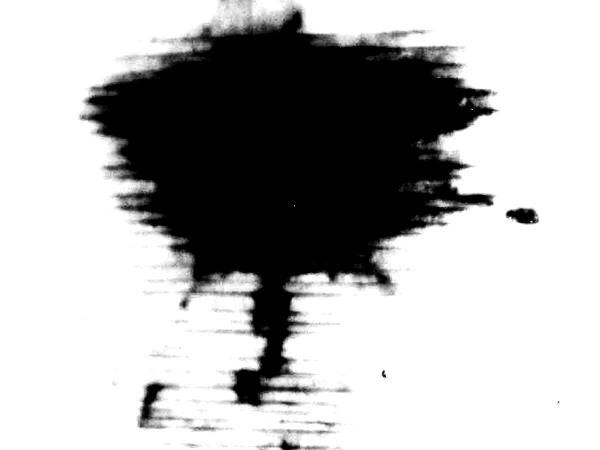
Далее речь пойдет как раз о поэзии как о становлении, о поэтическом как о событии. И здесь нас будет интересовать рассуждение Жиля Делеза, который писал о том, что «и наука, и поэзия являются в равной степени знанием», так как и то, и другое является высказыванием. Кроме того, Делез предлагает не мыслить соприкосновение с поэтическим в категориях значения: помыслить значение стихотворения или предмета искусства для Делеза означает отказ от реального в пользу абстракции. (Здесь требуется пояснение. Реальное для Делеза — это чистая производительность, некая конфигурация потоков, линий, отношений, причем постоянно меняющихся.) Для него важно не то, что означает конкретное произведение или его смысловые/структурные элементы, а его реальный эффект — то, что произведение делает и с писателем, и с читателем, и с исполнителем. Реальное находится в связях, во множественных и динамичных отношениях между всеми ними, коренится в самом движении этих отношений; никакого смысла в произведении, в читательском переживании или в авторском замысле нет. Так поэтическое, или «способ поэта», связано с творческой силой, которая одновременно разрушает и созидает, «опрокидывает все порядки и представления»; поэтическое — это пространство, в котором все становится возможным. Детерриториализация, то есть смещение — это ключевое понятие для философии Делеза, описывающего реальность как становление, и поэтическое сегодня становится тем полем, в котором эта детерриториализация наглядно осуществляется (например, смещение поэтического субъекта, его неопределенный статус). «Именно в этом смысле стать всяким, сделать из мира становление — значит создать мир, создать некий мир, миры, другими словами, найти свои близости и свои зоны неразличимости. Космос как абстрактная машина, и каждый мир как конкретная сборка, осуществляющая его. Когда мы сводим себя к одной или нескольким абстрактным линиям, которые будут продолжаться в других и сопрягаться с другими, дабы немедленно и непосредственно произвести некий мир, в коем становится именно этот мир, тогда мы становимся кем угодно, всяким. Мечта Керуака, или уже мечта Вирджинии Вулф, состояла в том, что письмо должно быть как линия китайского рисунка-поэмы. Вулф говорит, что надо «насытить каждый атом», а для этого устранить — устранить все, что является сходством и аналогией, но также «все вложить»: устранить все, что переходит границы момента, но вложить все то, что он включает — и такой момент не является мгновением, он — этовость, в которую мы соскальзываем и которая скользит в других этовостях благодаря прозрачности. Быть в точке начала мира. Вот какова связь между невоспринимаемым, неразличимым и безличным — тремя добродетелями. Свести себя к абстрактной линии, штриху, дабы найти свою зону неразличимости с другими штрихами и таким образом войти в этовость как в безличность творца. Тогда мы подобны траве — мы сделали из мира, из всякого становление, ибо мы создали необходимо коммуницирующий мир, ибо мы подавили в себе все, что мешает нам проскальзывать между вещами, прорастать посреди вещей. Мы соединили «все» — неопределенный артикль, инфинитив-становление и собственное имя, к которому мы сводимся. Насыщать, устранять, все вложить» . Так Делез сообщает нам о том, что в поэтической речи происходит смешение речи и языка, что в ней «полностью осуществляется свойственная языку способность разветвления и отклонения, инопорождения и модуляции» . Неслучайно он пишет об Андрее Белом, Мандельштаме и Хлебникове, называя их «косноязычными поэтами» и «трижды распятой русской троицей». Можно предположить, что интерес Делеза к модернистской традиции связан с тем, что именно тогда, в эпоху модернизма поэзия и искусство обретают статус радикальной автономии, а значит, начинают рефлексировать сами себя. Это значит, что именно тогда поэтическое впервые получает импульс к тому, чтобы стать аутопоэтическим, то есть стать саморазворачивающейся, самопроизводящей системой. Не такую ли систему Делез понимает под реальностью? Когда мы говорим о таком становлении, неизбежно возникает вопрос о становлении не-собой, о становлении Другим. Это то становление, которое можно связать с исполнительской деятельностью и присоединить к поиску поэтического в театре. Следует понимать, что поэтическое Другого — это всегда разговор об ангажированной поэзии: здесь мы останавливаем свой взгляд не на том, что собой представляет текст или спектакль, а на том, что они делают с нами и с другими; не на том, что сотворено, а на том, что творится, причем творится не с произведением, а и с произведением, и с нами, и с миром, и с исполнителем, и со зрителем/слушателем/читателем. Это разговор о политике в том смысле, что поэтическое здесь становится неотделимым от отношений между субъектами говорения, от борьбы за право говорить и определять язык этого говорения. Это поэтическое, которое не молчит, не указывает, не изображает, не паясничает, но поэтическое, которое действует. Каков механизм этого действия, или, лучше сказать, действования, и есть ключевой вопрос понимания поэтического такого рода.
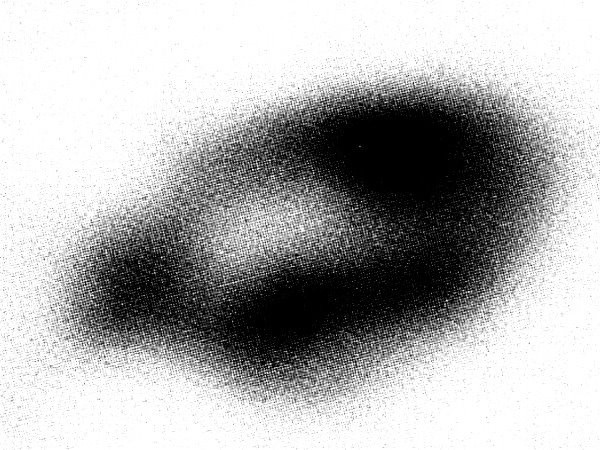
Здесь и писатель, и читатель — то есть те, кто входит в пространство поэтического — способен занять метапозицию, потому что переживание поэтического позволяет субъекту выработать критическое отношение. Пространство поэтического — это пространство, в котором происходит постоянная переконфигурация смыслов, детерриториализация, перемена мест (в том числе и мест вещей). Это и есть политика. Этот механизм достаточно точно описывает Жак Рансьер, обращая внимание на очевидную историчность поэтического языка. Поэтическое, по Рансьеру, не создает вещь, не указывает на нее, а всегда уже присутствует в ней: «Любая чувственная форма, начиная с камня или ракушки, говоряща. Каждая из них несет записанными в слоях и извивах следы своей истории и знаки своего предназначения» . Такое высказывание заставляет вспомнить о беньяминовской идее объектов, несущих на себе следы истории и времени, которое невозможно схватить. В диалектике присутствия, невозможности схватывания и фиксации, постоянном ускользании при определенной настройке можно уловить некоторое напряжение. Это напряжение между остаточными элементами тоски по возвышенному, впитанной современным человеком вместе с каноном, через образцы домодернистской культуры — и принципиальным отказом от этой тоски, осознанно совершенным в силу исторической необходимости. Данное рассуждение вновь возвращает нас к мысли о том, что язык обыденного говорения, бытовой язык, натуралистичные описания гораздо более поэтичны, чем изящное произведение, исполненное образов и абстрактных идей. Эта мысль заряжена политическим.
Мысля поэтическое политически, Рансьер отрицает репрезентативную функцию языка: «Язык не отражает вещи, поскольку выражает их отношения. Но это выражение, в свою очередь, мыслится как еще одно подобие. Если у языка нет функции репрезентировать идеи, ситуации, объекты или персонажей в соответствии с нормами подобия, это потому, что он уже в самой своей плоти являет физиономию того, что он говорит. Он не уподобляется вещам как копия, поскольку несет в себе их подобие как память» . В этой же работе Рансьер говорит о тождественности языка и поэзии в том смысле, что и то, и другое является выражением (а не отражением!) общества, то есть говорит одновременно об обществе, о его законах и о себе. Сама литература (и, конечно, поэзия) одновременно социальна и автономна (здесь можно вспомнить интерес Делеза к модернистской поэзии, которая уже рефлексирует собственную автономность, но еще не полностью рефлексирует свою социальность).
Рассуждать о Делезе и Рансьере и о политике поэтического можно довольно долго, опираясь на примеры из театра и кинематографа, на музыку и танец, на активистские лозунги и диалоги со случайным попутчиком. Мне же в завершение этого разговора хотелось бы вспомнить о поэзии метареализма. Именно там поэтическое рождается из ткани мира, который понимается как совокупность отношений и взаимосвязей. Метафора, которая находится на службе у
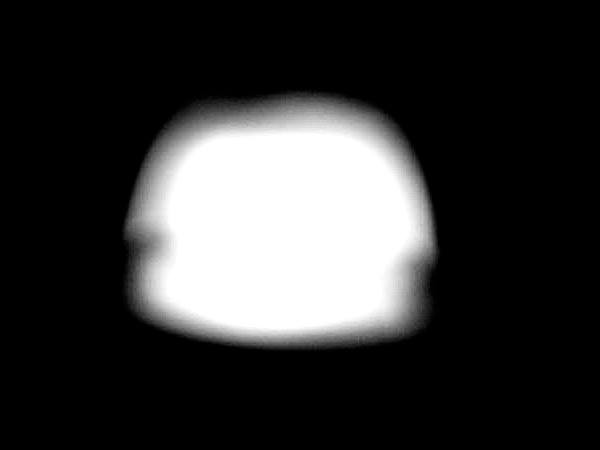
Алексей Парщиков
Дорога
Возможно, что в Роттердаме я вела себя слишком вольно:
носила юбку с чулками и пальцы облизывала, чем и дала ему повод.
С тех пор он стал зазывать к себе. И вот, я надела
дорогой деловой костюм и прикатила в его квартирку. Всю ночь
он трещал о возмужании духа, метафорах, бывших жёнах.
Как ошпаренная я вылетела на воздух.
Почему он, такой ни на кого не похожий и непонятный,
говорил об искусстве, с которым и так всё ясно?
На обратном пути я бы вырвала руль от злости,
но
Аркадий Драгомощенко
Только то, что есть — есть то, что
достается переходящему в область,
где не упорствует больше сравнение.
Все приходило в упадок.
Даже разговоры о том, что все приходит в упадок.
Пространство двоилось, гнили заборы,
консервные банки гудели от ветра;
меланхолия фарфоровых изоляторов, морозные сколы;
миграции мела;
за городом также порой грудь теснило дыхание,
или искра пробегала между висками.
Иногда казалось, что это над полем
всего-навсего птица. Однако, как быстро в имени таяло тело!
Перспектива должна была измениться.
И она изменилась.
Переплывали глазницу светила.
Как быстро мы ускользали из чтения. О великое
передвижение времени в деньгах!
Впрочем, и в ней,
разомкнувшей одеяние перьев, уменьшенное до ничто,
билось по-прежнему то, что можно было узнать.
Одни говорили, что этот дом (как и все аллегории) не в меру аляповат,
тогда как другие о тирании отца и о стеле,
вознесшей различия надпись… как речь идиота,
длится ощупывание другого лица…
Иные, в себя уходя, затихая,
внезапно принимались страстно шептать
что-то о фильмах, о которых
уже никому из присутствующих было не вспомнить.
Речь о первой войне Постмодернизма,
О том, что Водолей несомненно утишит
сердца́, но в безмерном пределе намерений
сужалось пространство,
чтобы скользнуть мимо сердца. Ужас? Нет, это было, бесспорно, другое.
О чем воображение ткало свои сновидения,
и распускало по петлям к утру,
и всё же можно было в них угадать черты прежних
времен, — рассказы о людях, чьи в прошлом терялись следы.
Но что было поделать? Фотографии? Записи голосов?
Айсберги библиотек в сталактитовых сумерках вод?
рев водостоков в эру ливневых весен?
Зрачок гераклитовый кофе? — сны,
чьи берега с годами теряли упругость
и осыпались известью стен,
когда к рассвету руки цеплялись за них…
Присвоить?
Выбраться? Стать существительным? И не утратить?
Или в листве раствориться?
Эти слова еще оставались
как бы не вырваны с корнем, создающие предложения,
в которых ритм возникает
независимо от того, откуда или куда они возвращают
никогда не принадлежавшее нам.
