Сергей Соловьев. Zero-mile (фрагмент)
…
Читателю здесь места нет.
Нет стороны для соучастия.
Они идут по лесу: двое — она и он.
И лес горит, холмы листая. Странно,
он думает, деревья
стоят в огне, как Даниилы,
и не сгорают. Мертвое горит
в полнеба, а живое — лижет
огонь, озарено. Как буквы,
стоят деревья, а страница
горит под ними. Что горит? –
пробелы, звенья. А они стоят
и зеленеют. На черном, выжженном.
Он проговаривает жизнь. Нет места
для соучастия. В самом себе.
Нет стороны. Они идут по следу
тигрицы. Почти фантома. День за днем
рисунок их следов танцует черновик
сближения. Сближения, он думает,
людей — сродни весенней свальной
змеиной свадьбе на пригреве.
Они идут. Она не понимает,
зачем так истово он ищет встречи с ней –
той, у которой горла поперек
и вдоль — кровь человечья.
Сближения. Что происходит?
В ней человек. Ни выйти, ни войти
в себя. И с ним она блуждает
как вывих, сбой программы,
принюхиваясь к собственным следам.
Присев, он говорит: ты видишь — свежий.
И в след кладет ладонь, как детскую
во взрослую. Ей страшно,
страх нисходит волнами по телу.
Идут. В чужой стране, родной,
пологим бабьим летом жизни –
одной, но на двоих
не
И все же. И видят озеро в просвете,
вдали — олени в мареве
колеблются, огонь ползет по гриве
холма. Как странно, думает,
что та, кто рядом, — мастерица
кукол. Придумывает их и создает.
Вертеп, тигрица, джунгли, куклы…
Надеты на руку. А сам ты? Весь — рука
под куклой речи? А за рукою что –
лицо? Того, кто их ведет, надев
на левую и правую, сближая вопреки
всему? Какой-то зиккурат камней,
уложенных как пирамида на поляне,
и рядом озеро. Похоже, здесь когда-то
была деревня, дом, возможно, храм.
И левая рука берет ее и наклоняет
над пирамидой, и ладони
ее кладет на верхний камень,
и, ниспадая, волосы ее
скрывают камень и ладони.
А правая берет его за бедра
и прижимает сзади к ней,
и вводит нежно,
как нож, в нее,
как зверя — в любовь,
как речь в уста немые,
и всё плывет, горит
и кровью мажет губы,
и лижет — лижет так,
что ноги их не держат…
Она лежит, раскинув их, и смотрит в небо,
легко и пусто в ней, и нет руки –
той, на которую была надета.
Другая — держит на весу
его, еще не зная, как с ним быть.
Еще дрожит улыбка на лице их,
на двоих одном, незримо
расходящемся. Костер в ночи
за озером вдали. Тигрица,
обходит пирамиду,
принюхиваясь долго, замирая, глядя
в землю, как будто под ногами нет ее,
и, развернувшись, метит место.

Если смотреть из древесного падающего листа…
Не обольщайся, в памяти нет сердца.
Она лежит в нем и глядит со дна,
и как небо разводит его руками,
он не видим ей, и не то чтоб она видна,
смуглой водою соткана, твёрже камня.
Или как зеркальце подносят к губам –
так всем телом они, чуть мутясь и туманясь,
что-то понять пытаются, прикасаясь
друг к другу, выпытывая осязаньем…
Жар внизу живота (стрелы точно подходят к ранам,
в них входя, говорит Кафка), а в волосах — роза.
Одна, в темнеющей лазури
лежит на берегу, лицом в ладонь.
Ветерок гудит, как бутылочку.
Остаются слова, рано так повзрослевшие,
как без матери детки.
И звезды — как грачи Саврасова.

Она укрывает его волосами от пят до темени
и в этой простоволосой хижине любит каждую
пядь его — так обжигающе по-детски,
а в паспорте, спиною к ней, стареют годы.
А он что может дать ей, кроме…
Пусть помолчит. Она смеется
так ангельски, так неуместно,
и всё плывет, и исчезает
в волнах оргазма. Вскрикнет,
и плывет — смеется,
тихонько и безгрешно, как ребенок
во сне.
Бог знает, где они. Был лебедь,
с небес свалившийся — как челн с педалькой,
у берега на привязи. И ни души вокруг.
Да и страна другая, всё другое
в самих себе. И сели в этот челн,
как в страшной сказке,
и переправились. И зеркальце, и гребень,
и лесок. Она смеялась, а наутро, во дворе
вычесывала волосы, склонившись,
и те, что из гребенки вынимала,
с седыми вперемеж,
не знала деть куда,
и вышла за околицу,
чтоб сжечь.
Он у плетня стоял и видел,
как обернулись люди к ней
из ближнего подворья, где собрались
и ткали плач.
Деревня в улочку одну,
за нею — джунгли, перед ней — беспутье.
Присела у обочины
и жгла. Они смотрели на нее –
на белокожую, свалившуюся с неба,
как мы на лебедя, и возвращались взглядом
к покойнику с топориком во лбу.
Такой гуцульский с длинным топорищем.
Их двое было — знахарей, шаманов
в деревне. Один другого зарубил
за то что порчу на него навел. Мучительно
и долго думал, потом пришел средь ночи
и зарубил во сне. И рядом сел, и говорил
чуть в сторону: зачем меня ты так
встревожил? Зачем теперь
ношу тебя внутри? В ту ночь,
когда так обжигающе по-детски,
и вскрикнула, и засмеялась, как во сне
ребенок, и прижалась
к нему без сил,
а он всё шел по улочке и думал:
дай ей любовь, дай жизнь, дай речь…
Но что могу я
дать? Крути педальки
лебедя. И шел к реке.
И дождик шел. И карапуз
у дальней хаты
сквозь щель в плетне
мне в спину прошептал
по-русски вдруг:
куда ты?

Странно, думает, снег лежит, а снегирей
нет. Может, они в глазах остаются?
Где-то небо, как боль затылочная,
где-то женщина, чтобы петь…
Свет шаткий с дудочкою наитья.
Шестипалое чувство нашло семью.
Где б ни была любовь — вверху, внизу ли…
И
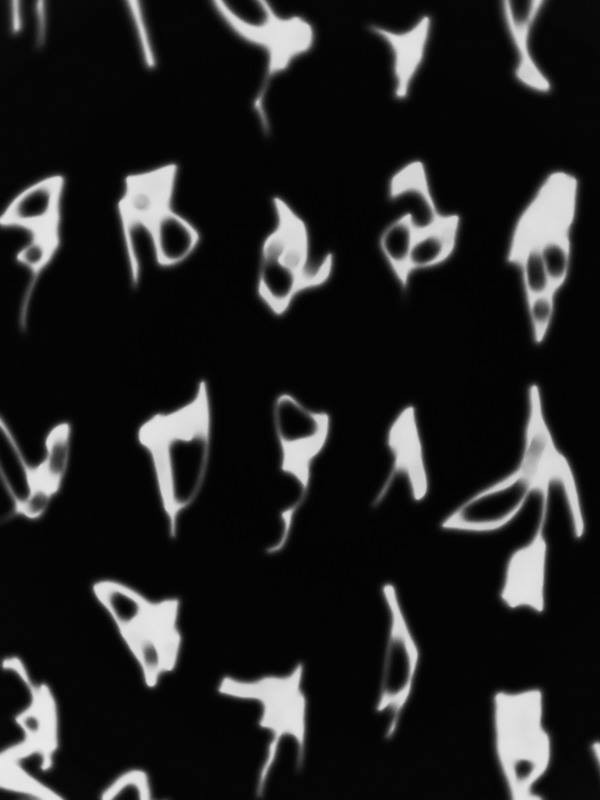
Бурдюк окаменевшей веры,
подвешенный на гвоздь небесный,
внутри покоится подложный
Колумб. И муравьиная тропа
людей в собор. И
растущие из пепла. Пол народа
сожгли как ведьму. И распятья
в изголовье спален. Раскаленный
недвижный свет за ставнями.
И тишь, и апельсины с веток
на мостовую падают со стуком
горьким. И камни спят, и видят сны
на суржике, на мавро готике.
И головы быков глядят со стен едален
стеклянными глазами на жующих.
Ей этот город нравится: Сивилла,
Гвадалквивир, фламенко, жизнь ночная,
и танцевать, и на испанском говорить,
ей нравиться в почти бесплотном платье
скользить по улице, и чтобы ветер
крыло волос выгуливал, ей нравится
гитара, Лорка, близость океана, апельсины
и солнце круглый год. Ей холодно в России.
В ней кровь цыганская. Ей хочется одной
побыть, за ставнями, и кукол сочинять
из дерева, и наряжать, и в люди выходить
улыбчивые, легкие… Она немного
волнуется: он завтра приезжает.
Понравится ль ему? Она волнуется. Они
сидят в кафе. Напротив лавки сувениров,
по сторонам которой — две улочки:
одна зовется Жизнь, другая Смерть.
Ну да, он говорит, чему ж тут быть
меж ними, как не лавке сувенирной.
И этой беженке-узбечке продавщице.
И безлюдной — длиной в минуту — жизни,
и этой смерти — в полторы. Риоху
пьют они. Сиеста, зной, лошадка
зашорена стоит, турист в коляске.
Он говорит: а помнишь деревушку ту,
у океана, где люди жили в кораблях,
по грудь ушедших в землю и обвитых
лианами, и улочки меж ними –
жизнь и смерть — бежали,
за руки взявшись — и чумазы, и светлы,
как дети. Не говорит. Лишь смотрит
в лицо ее, и речь зашорена,
как та лошадка. Есть женщины,
он думает, в которых и живешь,
как в лодках тех обвитых.
А есть необитаемы, как остров. Да,
вот так и жить: со всех сторон вода
и петли зрения, и речь в груди
раздвоена. Друг другу — край,
они лежат, прижавшись, выдыхая
близость. И кажется, еще он слышит
ее стихающий в изнеможенье
смех, чуть влажный, в солнечной росе,
смех полевых соцветий с темными глазами.
И ночь стоит с топориком во лбу,
и дни идут вокруг нее, танцуя.
Они лежат как световая щель меж ставень,
и смотрят в обе стороны: там — город
фейковый, как тот Колумб в соборе.
В другой — цветная рябь,
тигрица метит место…
Лежат, мутясь, как свет,
и лебедь в них плывет.
