Исламская культура – изобретение Запада?
Арабист Томас Бауэр бросает вызов стереотипам об исламе и мусульманах, которые утвердились на Западе. В западном обществе сложилось устойчивое представление о том, что в мусульманских странах не существует разделения между светской и религиозной жизнью, что ислам так или иначе пронизывает все аспекты жизнедеятельности. В глазах западных исследователей и политиков мусульманские страны обречены пребывать в Средневековье, где религия диктует жизнь. Томас Бауэр опровергает миф отсутствия светской жизни или её полной подчиненности исламу среди мусульман. Предлагаем вашему вниманию отрывок из книги "Культура неоднозначности и плюрализма".
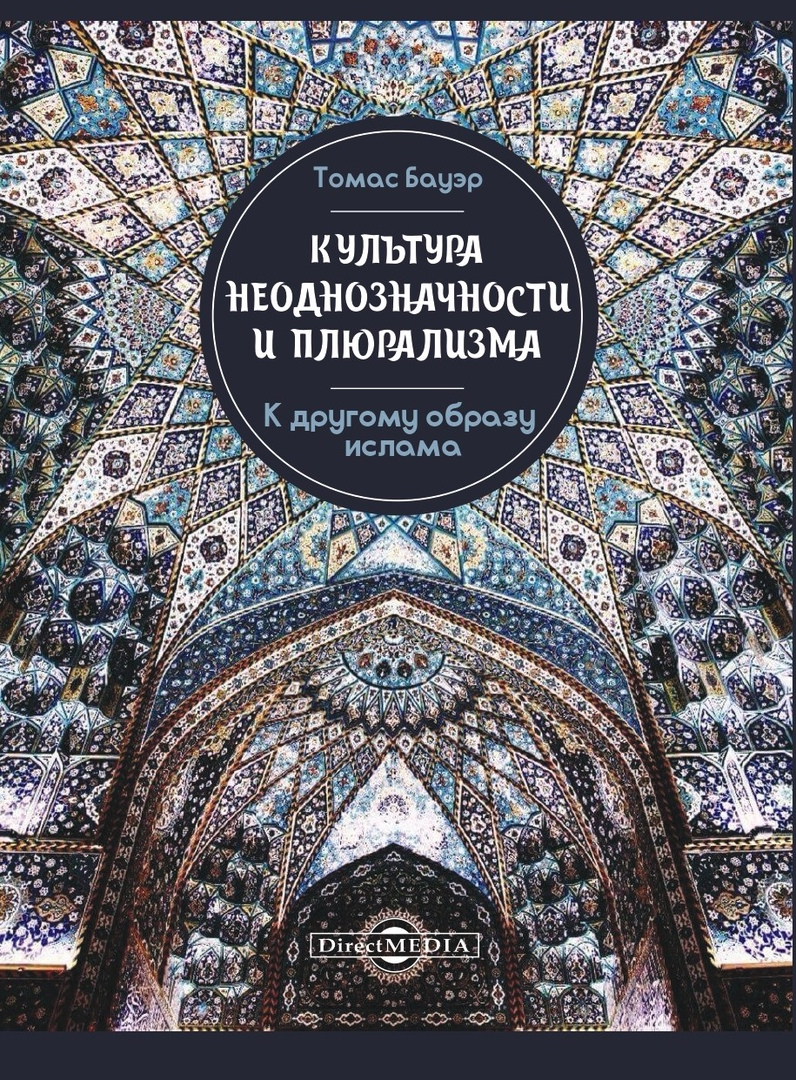
ИСЛАМИЗАЦИЯ ИСЛАМА
Когда говорят об исламском мире, то почти всегда настоятельно утверждают, что в исламе не существует разделения между религиозной и светской сферами, как и собственно никакой светской сферы, так как ислам пропитывает все области жизни и регулирует их. Вероятно, никакое другое предубеждение по отношению к исламу не оказало такого же опустошительного действия, как это. В Европе существует разделение между светским и религиозным или, точнее, эмансипация светского от доминантности религиозного как важнейшая предпосылка модерна. В исламской истории, как теперь утверждается, такого различия никогда и не было, более того, оно чуждо самой сущности ислама. А это означает, что ислам по своей сущности несовместим с современностью. Ислам остается вечным Средневековьем, ведь: «До самого конца Средневековья религия удерживала за собой позицию основного интереса человека». Какие последствия может иметь это убеждение для обращения Запада с мусульманами и с исламским миром, легко себе вообразить.
При этом было бы совсем не трудно опровергнуть это предубеждение, так как, конечно, во все времена в исламской культуре были зоны, свободные от религии, и люди умели различать религиозное и мирское, и было достаточно много людей, чей основной жизненный интерес лежал вне религии. Но чтобы можно было сделать выводы из столь банальной констатации, нужно разорвать порочные круги рассуждений и распутать нити предрассудков.
Центральным клубком такого рода предрассудков является представление об «исламской культуре». Если, например, говорят о цивилизации Древнего мира то, как заметил Альмут Хëферт, «наряду с другими, почти всегда присутствуют пять культур: Европа, Индия, Китай, Япония и ислам. Сразу бросается в глаза, что среди этих культур только ислам является не географическим понятием, а обозначением религии. Это обстоятельство, которое в качестве цивилизационной парадигмы восходит к XIX столетию, оказывается основополагающим концептуальным препятствием». Можно показать, что в течение XIX века происходила все более сильная «исламизация ислама» сначала в Европе, а в дальнейшем и на самом Ближнем Востоке. И этот процесс имел странные следствия. Слово «ислам» стало обозначением не только религии с определенным составом религиозных норм, но и самой культуры, а эти понятия ни в коем случае не равнозначны. Во-первых, «культура ислама» была культурой многочисленных приверженцев других религий. Еще в конце Первой мировой войны большая часть населения современной ныне Турции была немусульманской. Во-вторых, этикетка «исламская» была приклеена к областям, которые были далеки от религии. Так, большая часть объектов, выставленных в наших музеях исламской культуры, берет начало в светской жизни. Но, кажется, никому не будет мешать тот факт, что на выставке «исламской культуры» посетитель сначала увидит фигурный кувшин, а потом подойдет к витрине, где демонстрируется бокал для вина, представленный в каталоге под надписью «исламское искусство металла». Хотя говорить об «исламском бокале для вина» имеет столько же смысла, как и о «христианском прелюбодеянии».
Целые области светской жизни были через обозначение «исламский» терминологически сакрализованы,

Теперь посмотрим, что к чему привело наличие понятия «исламская медицина». Самим своим присутствием оно отрицало множественность ближневосточных медицинских дискурсов. Получив атрибут «исламский», научный медицинский дискурс, который совсем не был религиозным, при-обрел неподходящее и вводящее в заблуждение дополняющее слово, а существование глубоко укорененной подсистемы общества «медицина» было сделано незаметным.
Представляется, что существование ответственного только перед собственными нормами медицинского дискурса было для западных исследователей большим вызовом и не могло быть принято без серьезного «но». Так, например, историк науки исламского мира Мартин Плесснер пишет:
Медицинские труды Исаака Израэли и Маймонида совсем не отличались от трудов мусульманских авторов. <…> Наука, вероятно, была областью культуры, наименее доступной для «исламизации». Кроме того, продолжающаяся и неослабевающая враждебность властвующей ортодоксальности против античной науки была столь же характерной для ислама, как и для христианства вплоть до позднего средневековья, и для иудейства — до Нового времени. Знания, не базирующиеся на Откровении и традиции, считались не только не имеющими значения, но и первым шагом к ереси.
Другой ориенталист говорит о «борьбе между религиозными и светскими силами» и принимает факт, что один автор (вероятно, ученый в области хадисов) посвятил султану Баязиду II труд о медицине Пророка, в качестве доказательства того, что «медицина Галена в XV веке находилась в осадном положении со стороны медицины Пророка». Оба автора не хотят видеть, что в классическом исламском мире имело место относительно независимое существование дискурсов рядом друг с другом, при этом каждый находился в своей системе норм. А если же человек не хочет видеть са-мостоятельность различных дискурсов и, кроме того, считает настоящим «исламский» дискурс (ведь человек имеет дело с «исламской» культурой), то само существование нерелигиозного дискурса должно казаться сомнительным. Светская медицина представляется вследствие этого неким очагом сопротивления («малодоступным для исламизации») или видится в непрерывной борьбе с религией («борьба», «осада»). Такая картина скорее соответствует фантазиям ориенталистов, пытающихся представить себе общество с абсолютным доминированием религии, чем повседневной реальности, в которой беспрепятственно существует западная научная медицина как самостоятельный дискурс. Если набожные люди простирают свою покорность Божьей воле так далеко, что отвергают медицинское лечение (такое можно встретить даже сегодня на Западе), или знатоки хадисов предпочитают медицинскую мудрость Пророка светской науке, то это ни коим образом не влияет на самостоятельность и значение научного медицинского дискурса. Вполне понятно, что в восприятии отдельных личностей такое соседство может приводить к напряжению между благочестивым убеждением и мирской ученостью, но в реальности оно не отменяло существования рядом друг с другом религиозного, «магического» и светского медицинского дискурсов.
Более наглядным положение научной медицины в повседневной жизни становится с помощью ссылок не на отдельные случаи, которые невозможно обобщить, а из
Председателем сообщества врачей и ответственным за это сообщество должен быть тот, кто пользуется большим уважением и имеет большой опыт в профессии. Он должен принести нерушимую клятву, что он будет требовать от других врачей знания, указанные в книге врача Юханна ибн Масавай под названием «Проверка врача». Тех, для которых будет установлено, что они выполняют предписания, указанные в каждой главе, он должен допустить к профессиональной деятельности. При этом он должен дать им понять, что он отнесся к ним чрезвычайно снисходительно, так как не потребовал от них всего, что требует Гален в своем труде. Ведь этим многие врачи скорее всего не овладели. Тем же, кто не выполнит требования, не должно быть разреше-но исполнять эту профессию. Они должны продолжать дальше учиться и прилежно читать книги, прежде чем их допустят к лечению людей, иначе больным может быть причинен большой вред. <…> Кроме того, председатель врачей должен вслух прочитать то, что врач Гиппократ для себя самого и других врачей обусловил, и побудить их в этом поклясться <…> [следует клятва Гиппократа].
В заключении упомянуты чисто профессиональные требования, например, что нужно обратить внимание на полный набор инструментов врача, что в сложных случаях врачи должны консультироваться с коллегами и т. п. Все нормы, которыми должен руководствоваться мухтасиб по отношению к врачам, взяты из профессионального медицинского дискурса, бесспорной основой которого служит медицина Галена. От председателя врачебного сообщества требуются авторитет и профессиональный опыт, а для допуска к врачебной деятельности единственной меркой служит профессиональное умение. В качестве обязательного текста экзамена служит труд христианского врача ибн Масавай (ум. 243/857 г.), очевидно являющийся переработанной краткой версией одноименного труда античного, языческого врача Галена (129–216 гг. н. э.), который наш автор считал для новичков чересчур объемным. Все остальные советы и предостережения исходят из требований медицинской профессии. Единственное моральное высказывание текста — это полностью цитируемая клятва Гиппократа (ум. ок. 370 г. до н. э.). Медицинский дискурс извлекает основы этики из себя самого, и мусульманский мухтазиб XIV века должен заботиться о том, чтобы врачи допускались к работе после произношения клятвы на моральных основах дохристианского язычника! Было бы забавно говорить здесь об «исламской» медицине.
Эта нищета понятий имеет своим источником то, что отношения между религией и обществом в «исламской» культуре были совершенно другими, чем в европейском премодерне, и они не позволяют охватить себя в понятиях, характеризующих особенности западного модерна. Здесь две проблемы.
Первая проблема состоит в том, что в каждой области можно найти нечто «исламское». Так, в действительности существует «исламская медицина» в полном — религиозном — смысле этого слова. Но так как слово «исламский», во-первых, обозначает систему религиозных норм ислама, а
Второй проблемой является то, что сама религия была сформирована как чрезвычайно сложная структура. (Эта характеристика может вводить в заблуждение, т. к. все понятия и формулировки, с помощью которых пытаются выразить отношения между религией и «светом», носят отпечаток европейского опыта и применение их к культуре Ближнего Востока неизбежно дает искаженную перспективу). Другими словами, ближневосточные общества в исламское время демонстрировали не только высокую степень разделения труда, но и такое развитие общественных подсистем, что оно в аналогичном виде встречается в Европе только в Новое время. Это структурирование не происходит вдоль тех же линий, что и в Европе. Прежде всего, дихотомия религиозный-светский на Ближнем Востоке играет гораздо менее важную роль, и не потому, что религия там вездесуща, а потому, что религия не управляется церковной иерархией и не определяется ею, но в каждой подсистеме принимает свою функцию и поэтому не существует в виде общественно охватывающей системы «религия». Хотя исламский мир всегда знал различие между дин («религия») и дунья («мир»), тем не менее, конфликт между этими понятиями был иным, чем в Европе. Здесь, в Европе право, политика, медицина, литература и т. п. выделились как самостоятельные подсистемы общества только после того, как они освободились

Из этого развития получилось следующее. Отдельные подсистемы распознаются легко и отчетливо. Существуют право, суфизм, теология, хадисы, медицина, литература и т. п. — ее каждая подсистема со своими стандартами, экспертами и дискурсами. Роль религии в каждой из этих обла-стей сильно различается. Она является центральной в теологии (калам), которая вопрошает об истине, она центральна и в культуре хадисов, но совсем в другой форме, а именно как благочестивая передача текстов ранней общины; религия задает нормативные основы для права, эксперты которого демонстрируют гораздо более светскую внешность, чем теологи и ученые в области хадисов, и используют целый ряд нерелигиозных дисциплин, таких как логика и риторика; религия является совершенно незначимой для научной медицины и не имеет практически никакого значения для литературы. Таким образом, каждая общественная подсистема имеет некоторым образом свою собственную религию, в то время как, с другой стороны, общественную подсистему религии не так легко обнаружить. Скорее всего, ее следовало бы искать у служителей культа, у имамов (читающих молитвы), муэдзи́нов и проповедников. При этом мы бы подошли ближе всего к европейским представлениям о религии, ведь эти личности, несомненно, являются религиозными официальными лицами. Но они занимают плохо оплачиваемые должности, почти не имеют влияния на интеллектуальные слои и не могут способствовать основанию естественного и авторитарного религиозного дискурса.
В этом месте возникает дальнейший ошибочный вывод интерпретаторов ислама, отягощенный тяжелыми последствиями — ислам как религия нигде не находится. Религиозные же его элементы можно найти в самых различных общественных областях. А так как из собственной (европейской) культуры вынесено стойкое убеждение, что религиозная сфера противопоставлена светской, то каждую область, где осела мелкая пыль религиозности, пусть даже ее ничтожные следы, приписывают к религиозной сфере, чтобы впоследствии объявить культуру, окрещенную «исламской», насквозь религиозной. Однако связь с религией у правоведов, теологов, суфиев и проповедников совершенно разная. Их отношение к мирской стороне жизни сильнее выражено через нормы их профессии, чем через дихотомию «религиозный — мирской». Западный же взгляд был радикально другим. Все, у кого можно было распознать хоть какое-либо отношение к религии, независимо от его природы, были недвусмысленно приписаны к «религии». Общая культура была обозначена как «исламская» и служила примером архетипа полностью религиозно доминируемой культуры. Оставался только последний шаг. После того, как удалось определить исламскую культуру как насквозь религиозную, нужно было уничтожить все, что не хотело подчиняться этому способу рассмотрения. Все, что в исламском мире не было очевидно религиозным, было либо «в целом» обозначено как «исламское», как например искусство и медицина, или рассматривалось как второстепенное и в широком смысле игнорировалось, как литература и музыка. Там же, где дискурсы набожности стояли рядом с менее набожными или совершенно светскими, вторые рассматривались как отклонение от нормы, при этом, конечно же, набожно-религиозный дискурс рассматривался как нормоопределяющий. Наконец всю исламскую культуру удалось так описать словами Г. Э. фон Грюнебаума:
Ислам стремится охватить жизнь во всей ее полноте. Он выдвигает как идеал жизнь, в которой от колыбели до могилы ни одного мгновения не протекает в конфликте с религиозными нормами, в которой не существует даже кратчайших эпизодов, где бы не существовали религиозные нормы поведения. Различия между важными действиями и неважными деталями повседневной жизни теряют свое значение, когда каждый шаг сформирован божественными запретами и переживается по их предписаниям. Области жизни, подверженные религиозному контролю, и те, которые его избежали, невозможно в исламе описать, разделяя на сакральное и мирское. Не существует области, внутри которой наши действия не повлияют на нашу участь в потустороннем мире.
Вероятно, этими словами можно до некоторой степени верно описать жизненную установку ханбалисткого знатока хадисов из дамасского предместья Салихия. Однако автор говорит не о благочестивых носителях традиции хадисов, а об исламском мире в целом. И то, что Грюнебаум здесь набросал, это на самом деле абсурдная карикатура, смешной искаженный образ, который имеет так же мало общего с действительной жизни в исламском обществе, как монашеский идеал картезианцев с повседневностью любекского предпринимателя. Этот выдуманный ислам, который Грюнебаум представляет как общий закон и жизненную практику, существовал до XIX века только в малых религиозных сообществах, а сейчас существует прежде всего в фантазиях западных ориенталистов и радикальных салафитов. Сам факт, что существовали и существуют набожные люди, которые поддерживают такое всеобъемлющее понимание ислама, не должен вести к привилегированности дискурса набожности в сравнении с другими дискурсами. Другими словами, историки исламского мира фальсифицируют действительность, если они априори считают религиозный дискурс важнее и правильнее, чем нерелигиозный, и если они, при противопоставлении религиозного и нерелигиозного дискурсов, рассматривают религиозный в качестве нормы, а нерелигиозный как отклонение. И это только потому, что мы назвали исследуемую культуру «исламской» и исходим из религиозной «пропитанности» этой культуры. Гораздо правильнее было бы постоянно задавать вопрос, какую ценность имеет некий дискурс для какой-то общественной группы. Тогда станет ясно, что старым, набожным учителям религии сегодня приписывают такое верховенство дискурса, о котором они при жизни не смели и мечтать. Как показывает эпиграф этой главы, Ницше восторгался исламской культурой, так как он полагал, что она возникла на основе «благородных мужских инстинктов», которые не подчинились ханжеству. По крайней мере в этом пункте он понял в исламской культуре больше, чем некоторые специалисты наших дней.

«Исламизация ислама» проникает сегодня в организации, занимающиеся культурой Ближнего Востока. Хотя специальность «арабистика» существует только в немногих университетах Германии, это не значит, что в других университетах нельзя изучать арабский язык или защитить диссертацию по арабской литературе. Но там это делается по специальности «исламоведение», а под таким названием более подходящим является занятие теологией, а не литературой. В то же время вряд ли кто-то будет на кафедре англистики защищать диссертацию по таинствам Святого причастия англиканской церкви. Но существует общепринятое понятие, что на специальности «исламоведение» должны заниматься религией ислама, и поэтому остальные объекты, такие как литература, ранее значительнейшая специализация именно немецкой арабистики, вытеснены на обочину.
Маргинализация литературы в сегодняшнем взгляде на историю Востока является вопиющей. В то время как в арабской и персидской культурах именно поэзия и проза во все времена стояли в центре интересов общества, и литературный дискурс для многих отраслей общественной и частной жизни был в широком смысле важнейшим, многие сегодняшние эксперты по Востоку полагают, что они могут обойтись без знания литературы и просто перепрыгнуть многочисленные стихи, которые рассеяны в исторических трудах и в собственно комментариях Корана. Их побуждает к этому возможно бессознательный вывод по аналогии из наших собственных отношений, где важные вещи редко обсуждаются в литературной или еще реже в поэтической форме. А то, что в культурах Ближнего Востока дело обстоит совсем иначе, это упускается из виду. Эта тенденция, игнорирующая литературу, усиливается еще тем фактом, что большая часть арабской, персидской и турецкой поэзии является совершенно светской и не только игнорирует религиозные нормы, но и часто им противоречит. А так как в исламе, по мнению этих специалистов, не должно быть ничего мирского, то они не находят ничего лучшего, как игнорировать светскую литературу или, не обращая внимание на очевидные факты, признать ее маргинальной.
