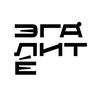На границе реальности: жизнь ментально других людей в России

И без того прогнутая панцирная сетка кровати натужно скрипит, прогибаясь еще сильнее под моим весом. Когда я ложусь на бок, я упираюсь взглядом в тумбочку, исцарапанную именами, совсем как в голливудских фильмах про побег из тюрьмы. Я фыркаю, замечая инвентарный номер, в голове проносится мысль об инвентаризации мыслей в головах чиновников, никогда, очевидно, здесь не бывавших — или примирившихся с совестью настолько, что им уже плевать.
Пахнет кислыми щами и сыростью. Я избегаю переворачиваться на другой бок, там, на соседней койке, лежит девушка Маргарита, которая почти всегда молчит, лишь изредка издавая протяжные мяукающие звуки. К Маргарите не приходят родственники, она приехала из другой страны и совершила импульсивную попытку суицида, после которой ее поместили в местный ПНД. Да, мы именно в нем — в классическом психоневрологическом диспансере на краю безликого города, больше, впрочем, похожем на тюрьму (но не очень строго режима). Здесь нет дверей в туалетах, а на завтрак, обед и ужин — капуста. Думаю, я уже могла бы написать книгу о капусте, или она скоро начнет мне сниться.
Мне кажется, Маргарита просто не хочет говорить. Два раза в день к ней приходит женщина с суровым лицом, она делает Рите уколы. Возможно, Рита просто думает, что ее попытка суицида удалась и она попала в подобие чистилища.
***
Жизнь ментально других людей никогда не была легкой в любой стране и при любой системе. От «легкого» уровня сложности, когда тебя в упор не замечают и ты предоставлен себе сам, до «хардового» — когда тебя принудительно госпитализируют, помещают в закрытую лечебницу
Я
Ни один из этих людей не знал, куда обратиться за помощью. Даже если представить, что их невежество сменилось психологической грамотностью и они понимают, что с ними происходит — идти им все еще некуда. Есть враг страшнее невежества — это неравенство.
Экономическое неравенство ограничивает доступ к качественной медицинской помощи. Далеко не все могут себе позволить лечение в частной психиатрической клинике (я снова хмыкаю, представляя мать четверых детей с единственным оставшимся зубом, каждый год исправно приходящую за подачкой в 10 тысяч рублей), и потому оказываются в мрачных психневродиспансерах, в которых чаще калечат, чем помогают. Ужасы карательной психиатрии остались в прошлом (впрочем, возможно, мы многого не знаем), но паттерны оттуда однозначно перекочевали к нам, в современную Россию. Мрачные коридоры, отвратительная еда, грубость и унижение человеческого достоинства — все это реальность, а не байки. С каждым годом становится лучше? Безусловно. Но новости о вскрывшихся случаях сексуального насилия над безвольными пациентами заставляют вмиг забыть о любом «прогрессе».
Нашу систему здравоохранения, особенно для психически больных, очевидно «половинчатых» для государства людей, ненужных и недужных, нельзя назвать безопасной, и уж тем более — доступной.
Закон о врачебной тайне попирается постоянно — в дело достаточно вмешаться костлявой руке коррупции. Пара тысяч (а в регионах, подозреваю, и того меньше) — и информация, которая по идее должна оставаться строго конфиденциальной, будет раскрыта. Винить врачей и санитаров, изматывающий труд которых оплачивается в 5 раз ниже, чем того заслуживает? Нет, пожалуй обойдемся без этого. Необязательно глубоко копать, чтобы снова прийти к мысли об экономическом неравенстве.
Принудительная госпитализация в психиатрическую больницу подразумевает постановку пациента на учет, что практически равнозначно учету в полиции. Как пишут юристы, категория «учет» упразднена, и такого понятия нет. Складывается ситуация, похожая на ту, что описана в одном очень неприличном анекдоте: «Жопа есть — а слова нет». Люди боятся обращаться за помощью. Боятся потерять работу, права, уважение коллег и близких. Боятся, впрочем, и мысли о собственной «ненормальности», которую охотно подогревает стигматизирующее общество. Опять же — да, с каждым годом становится лучше. Но пока эта улитка еле ползет, в диспансерах задыхаются люди, которым нужен совсем другой уход. В частной психиатрической клинике обойти учет можно (по большей части там всем плевать), но не каждый может себе позволить сеанс с психиатром по цене средней зарплаты. С психотерапией ситуация и того красочнее — для эффективного лечения результата часто требуется год или два, встречаться с врачом раз в неделю, тогда как среднестатистическому жителю региона даже на один сеанс придется копить.
Медикаменты — наша отдельная боль. Вопреки расхожему мнению, постоянный прием препаратов нужен не только стационарным больным в тяжелом состоянии. Люди с расстройствами личности, биполярным аффективным расстройством, находящиеся в клинической депрессии (можно продолжать) — нуждаются в медикаментах точно так же.
Доступ же к ним ограничен, и препараты достаются лишь избранным. Цены на упаковку оригинальных антидепрессантов, нейролептиков или нормотимиков составляет иногда половину минимальной заработной платы. Если не можешь платить по 8-10 тысяч в месяц на лекарства — будь добр, пей дженерики. Последние же оказываются часто не только неэффективными, но и банально опасными. Несмотря на «одинаковый» состав в аннотации, качество сырья и этапы его обработки разнятся, и говорить о полноценной замене препарата дженериком не приходится.
Людям с ментальными расстройствами сложнее найти работу, потому что работодатель зачастую не знает, как себя вести,
Отсутствие анонимности также привносит ограничения в социальную жизнь ментально других: трудно не только найти работу, но и получить документы, например, водительские права или медицинскую книжку, где требуется прохождение психиатра. Чаще всего, люди просто умалчивают о своих проблемах, проходя медкомиссию, чтобы не дай Бог не попасть в жернова системы и быть объявленными «ненормальными». Получается замкнутый круг: хочешь работать и жить нормальной жизнью — избегай государственных клиник. Что подразумевает отсутствие помощи вообще, потому что среднестатистический гражданин не может себе позволить частного психиатра и дорогостоящие медикаменты.
C 11 августа 2020 года в России дети от 15 до 18 лет больше не имеют права на врачебную тайну. Согласно новым поправкам в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» родители смогут получать всю информацию о здоровье детей без их согласия и по факту визита к врачу. Это означает, что подростки начнут еще больше скрывать информацию о своем ментальном состоянии здоровье и не получат необходимой помощи.
Бесплатные способы получить психологическую помощь, например, телефоны доверия работают крайне плохо, дозвониться по указанным номерам трудно, часто номера телефонов недействительны или устарели. Приложения и боты для ментально других людей найти на русском языке сложно, хотя в англоязычном интернете таких программ гораздо больше.
Классовое неравенство на законодательном уровне поддерживает стигматизацию и лишает ментально других доступа к медицинской поддержке. Доступной информации о ментальных проблемах нет. Сами диагнозы оказываются окутаны флером стереотипов, благодаря популярной культуре, мемам, названиям песен и альбомов, созвучных с ментальными расстройствами. Табуированность ментальных расстройств — системная проблема. До тех пор, пока государство не направит силы на борьбу с невежеством и неравенством, вместо вливания миллионов в мракобесную повестку Госдумы, решения ее ждать не приходится. Остается понять, не противоречит ли самому понятию «государство» борьба с неравенством?
***
Я
Анна Кремешкова, Катя Ланскас
Иллюстрации: Александра Пушная