Феликс Гваттари. Практики экософии и реставрация Субъективного Города (1992)
В “Практиках экософии” Ф. Гваттари рассматривает изменения экзистенции города, порожденные в рамках трансформации капитализма конца XX века. “Пересборка”, которую прошли города и люди в них, создали новую сеть иерархий и властных отношений.
В то же время, данный текст, написанный о процессах и тенденциях тридцатилетней давности, является не просто приветом из относительно недавнего прошлого, но и напоминанием о том, куда мы можем двигаться для достижения лучшего будущего. Многие технические новшества, прогнозируемые Гваттари, уже в том или ином виде стали частью нашей действительности. Web 2.0, соцсети и алгоритмы сцепили нас в глоколизированном пространстве, где глобализация интернета сливается с цифровыми локальными сообществами. Однако город по-прежнему остается для многих отчуждающим или просто “чужим” пространством, некоторым холодным и безразличным монстром. И новые технологии сами по себе далеко не всегда способствуют его ослаблению.
Экософская призма восприятия и конструирования города, наоборот, предлагает видеть во всем этом творческое пространство, формируемого нашими собственными усилиями. На фоне пессимизма, порожденного восприятием технико-экономических изменений, “Практики экософии” помогают увидеть путь, в котором мы все можем создать город для всех.
Post-Marxist Studies
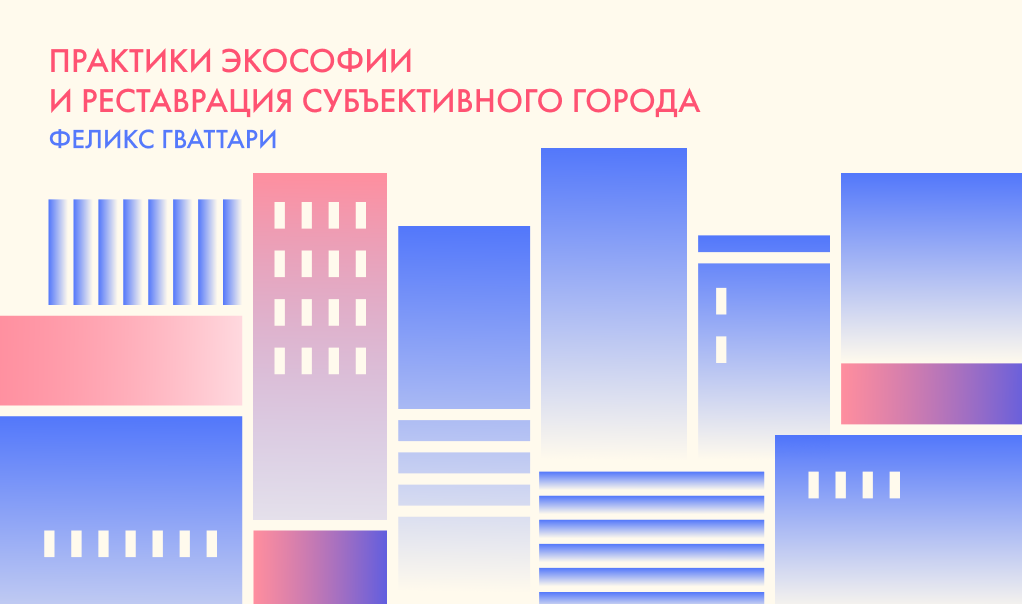
Феликс Гваттари. Практики экософии и реставрация Субъективного Города (1992)
Современный человек подвергся основательной детерриториализации. Родные (originaires) ему экзистенциальные территории, такие как тело, дом, племя или культ, лишились «твёрдой почвы под своими ногами», и теперь они пытаются закрепиться за миром сомнительных (précaires) и вечно сменяющих друг друга образов (représentations). Те же подростки слоняются по улицам неразлучно со своими Walkman’ами, из которых по проводу до наушников, плотно воткнутых в уши, несутся и всё-таки обживаются (sont habités) в них ритурнели, слагавшиеся явно не здесь, а где-то очень далеко от их родного дома (terres natales). Но раз уж на то пошло, то «родной дом», — что это вообще может для них значить? То место, где покоятся их предки? Место, где они родились и где их настигнет смерть? Едва ли. Для них больше нет предков. Они оказались заброшенными сюда не пойми зачем, и примерно так же они и исчезнут! Цифровым порядком (codification informatique) они с самого начала отправлены под своего рода «домашний арест» или по социо-профессиональному пути, который распределит (programme) их: одних он поставит в относительно привилегированное положение, других сделает нуждающимися.
И сегодня всё пущено в подобную циркуляцию: музыка, мода, рекламные слоганы, гаджеты и торговые марки. Но и в то же время кажется, что никакого движения нет (tout semble rester en place), как если бы различия между искусственно-созданным положением вещей и лоном очищенных (standardisés) пространств, где всё равноценно, не существовало. Ведь те же туристы строят путешествия, как бы бездвижные, перевозные. Их путешествие — это одноразовые пульманы, одноразовые кабины самолётов, одноразовые комнаты с климат-контролем в отелях. Это прогулки мимо памятников и мест, которые были увидены уже сотни раз на рекламных буклетах или по телевизору. И если всё так, то скорее всего субъективности грозит перспектива остаться в каменном веку (pétrification). Ибо она теряет вкус к различию, к неожиданному, к неповторимому событию (l’événement singulier). ТВ-шоу, звёздная система спорта, эстрада, политическая жизнь действуют на субъективность, как нейролептики, оберегающие её от тревоги ценой её же инфантилизации и обезволивания (dé-responsabilisation).
В таком случае, должны ли мы жалеть о потере ясных ориентиров прошлого? Должны ли мы жаждить резкого конца истории? Должны ли мы принять как свою судьбу возвращение к национализму, консерватизму, ксенофобии, расизму и фундаментализму? Тот факт, что на сегодняшний день значительная часть общественного мнения подвержена таким настроениям, делает их менее иллюзорными и более опасными. В таком случае создание новых межкультурных, транснациональных, трансверсалистских пространств и измерения ценностей, вышедшего из-под чар территоризованной власти, является основным условием выхода из нынешнего тупика планетарного масштаба. Однако человечество тесно связано с биосферой, и их общее будущее в равной мере зависит от механосферы, которая их обволакивает. Поэтому не стоит надеяться, что выйдет переустроить среду обитания, не переосмыслив целей экономики и производства, не переосмыслив устройство города, не переосмыслив социальные, культурные, художественные и духовные практики. На смену машине, которая не заботится о воздействии на человека и окружающую среду, машине, которая находится в плену у экономики прибыли и неолиберализма, то есть инфернальной машине слепого количественного экономического роста, на смену должна прийти новая форма качественного развития, которая восстановит в правах уникальность и сложность объектов человеческого желания. Подобной связке экологии окружающей среды, научной экологии, экономической экологии, урбанистической экологии и социальных и духовных экологий я дал название — «экософия». Я не хотел охватить одной обобщающей или тоталитарной идеологией все эти разнородные экологии. Я хотел задать направление этико-политическому выбору разнообразного, выбору творческого разногласия (dissensus), выбору ответственности перед различием и инаковостью. Ведь всякая частичка жизни, пусть и всецело принадлежа транс-индивидуальным филумам, превосходящим её, постигается прежде всего в своей неповторимости. Поэтому рождению, смерти, желанию, любви, отношению ко времени, к телу, к живым и неживым формам предстоит встретить новый, очищенный и свободный взгляд. Мы должны снова и снова принимать участие в воспроизведении того, что психоаналитик Стерн называет «эмерджентной самостью» (1). Нужно вернуть взгляду детства и поэзии положенные им места, вместо сухого и слепого взгляда на жизнь экспертов и технократов. И речь не о том, чтобы противопоставить утопию нового «Небесного Иерусалима», подобную той, что была в Апокалипсисе, суровым крайностям (nécessités) нашей эпохи, а о том, чтобы в самом их сердце основать «Субъективный Город», переориентировав технологические, научные, экономические цели, международные отношения (особенно между Севером и Югом) и крупные машины масс-медиа. Нужно вызволить себя из лап ложного (faux) номадизма, в самом деле лишь заточающего нас в пустоте безжизненной современности. Нужно пробиться к протокам желания, к которым машинные, коммуникационные, эстетические детерриториализации прибивают нас. По случаю переприсвоения средств нашего мира нужно создать условия для возникновения экзистенциального кочевничества, столь же интенсивного, что было у индейцев доколумбовой Америки или аборигенов Австралии.
[1] D. Stern, The Interpersonal World of the Infant, Basic Books, New York, 1985.
Однако этот процесс «пересборки» (refinalisation) человеческих активностей во многом зависит от эволюции настроений города. Нам прогнозируют, что в следующие десятилетия почти 80% человечества будет жить в городах. И нужно добавить, что оставшиеся 20%, проживающие в «сельской местности», будут не менее зависимы от городских экономик и технологий. На самом же деле глубоко изменится только различие город/природа, потому что «природные» территории подпадают под программы развития туризма, отдыха, турбаз, экологических заповедников и телематически децентрализованной промышленной деятельности. К тому, что останется от природы, будет должно отнестись с той же заботой, с какой мы относимся к ткани города. В целом, угрозы биосфере, глобальный демографический рост и международное разделение труда заставят городское общественное мнение размышлять о своих проблемах на фоне глобальной экологии. Однако всегда ли эта власть гегемона, которой по сути наделён каждый город, синонимична процессам обезличивания, клиширования и стерилизации субъективности? Как мы могли бы в будущем помирить её и побуждения к сингуляризации и ретерриториализации, которые сегодня находят лишь патологическое выражение в возрождении национализма, трайбализма и религиозного фундаментализма?
Ещё в далёкой античности города испытывали (ont exercé) свою власть над периферией, над варварами и кочевниками (а Римская Империя над всем, что лежало по обе стороны «лимеса»). И в те времена различия между городской цивилизацией и остальным миром были довольно резки, они основывались на противостоянии религиозного и политического характера. Вспоминается Огюстен Берк, который привёл прекрасный анализ тенденции, свойственной традиционному городскому японскому обществу, — держаться на дистанции как от «лесной глуши и её химер», так и от любых приключений за морями-океанами (2). Но времена сильно изменились: японцы не только ведут свою экономику и культуру на все четыре стороны света, но и своих альпинистов — ведь из тех, кто ежегодно поднимается на склоны Гималаев, их больше всего!
[2] A. Berque, Vivre l’espace au Japon, PUF, Paris, 1989.
Различия между городами постепенно исчезают, в то время как, начиная с XVI века, модели городов, как мы видим, множатся. И это напрямую коррелирует с возникновением процессов урбанизации и развития инфраструктуры капиталистических национальных образований. Например, Фернан Бродель исследовал разнообразие испанских городов (3). Гранада и Мадрид были бюрократическими городами; Толедо, Бургос и Севилья — бюрократическими, но также городами рантье и ремесленников; Кордова и Сеговия — промышленными и капиталистическими городами; Куэнка — промышленным и ремесленным; Саламанка и Херес — сельскохозяйственные города; Гвадалахара — клерикальный. Были и другие города: военные, «овцеводческие», сельские, морские, учебные… В конце концов, единственный способ соединить все эти разнообразные города в одно капиталистическое целое — рассматривать их как части одной общей национальной инфраструктуры, сети (réseau d’équipements collectifs).
[3] F. Braudel, La Méditérranée et le monde méditerranéen, Armand Colin, 1966
В наши дни эта сеть материальных и нематериальных ресурсов принимает всё большие масштабы. Она распространяется на весь мир, потому тем больше оцифровывается, обретает стандартную и единую форму. Такое положение вещей становится завершением длительной миграции городов-миров (villes-monde), — как их называл Фернан Бродель, — которым успешно передались экономический и культурный перевес: Венеции в середине XIV века, Антверпену в середине XVI века, Амстердаму в начале XVIII века, Лондону с конца XVIII века и т. д. Как считает Бродель, рынки капитала развёртывались концентрически: начинались в городских центрах, владевших ключами от экономики, что и позволяло им получать большую часть от всей прибыли, а завершались на периферии, где прибыль стремилась к нулю, а цены по итогам хилой торговли достигали максимума. Подобная ситуация, когда капиталистическая власть сосредотачивается в одном глобальном мегаполисе, претерпевает внутренние изменения, начиная с последней трети XX века. Начиная отсюда, мы будем иметь дело уже не с чётко локализованным центром, а с гегемонией «города архипелага», или, точнее, с гегемонией подмножеств крупного города, что соединены средствами телематики и информатики. Город-мир новой формы мирового интегрированного капитализма подвергся глубокой детерриториализации, ведь все те различные части, из которых он состоит, как бы рассыпаны по многополярной городской ризоме, окутавшей всю поверхность планеты.
Следует отметить, что это глобальное объединение капиталистической власти в сеть (mise en réseau), даже смешав городские, коммуникационные средства с настроениями своих элит в одну однородную массу, всё равно усугубило различия в стэндинге разных жилых зон. Теперь совсем не очевидно, что неравенство проявляется только между центром и периферией. Сегодня другое неравенство бросается в глаза, — когда наблюдаешь технически и технологически оснащённые «кластеры», а потом районы с посредственным жильём для среднего класса, районы, где порой царит катастрофическая бедность. От богатых районов Рио рукой подать до фавел, и примерно то же на Манхэттене, где соседствуют центр международных финансов и бедные Гарлем или Южный Бронкс, и я не говорю о десятках тысяч бездомных, заселяющих улицы и парки. Конечно, ещё с XIX века часто бывало так, что бедняки жили на верхних этажах домов, остальные этажи в которых занимали богатые семьи. А сегодня социальная сегрегация воплотилась в виде гетто: как в Санье, в центре Токио, как в районе Камагасаки в Осаке или как в бедных пригородах Парижа. Некоторые страны третьего мира даже превращаются в подобия концентрационных лагерей или, по крайней мере, в зоны домашнего ареста для населения, которому запрещено покидать пределы страны. Но обратите внимание, даже в необъятные трущобы стран третьего мира окольным путём проникает капитализм со всеми своими образами: через телевизор, гаджеты и наркотики. Мы видим, что связка раба и господина, бедного и богатого, недоразвитого и прогрессивного теперь реализуется бок о бок (conjointement) как в наблюдаемом городском пространстве, так и в отчужденных формациях власти и субъективности. Это значит лишь то, что капиталистическая детерриториализация города представляет собою лишь промежуточный этап. Она зиждется на ретерриториализации «богатое/бедное». В таком случае стоило бы грезить не о возвращении к ориентированным на себя городам средневековья, а, напротив, о движении к дальнейшей детерриториализации, поляризации города посредством новых универсалий ценности. Грезить о достижении городом цели стать не-сегрегативным, но ресингуляризирующим в вопросе производства субъективности. В конце концов грезить о том, чтобы он стал свободным от гегемонии капиталистического оценивания (valorisation), ориентированного только на прибыль. Но это отнюдь не значит, что нужно отказаться от любого регулирования экономики со стороны рынка.
Следует признать, что настойчивость, с которой заявляет о себе бедность, представляет из себя не просто сухой остаток, с которым богатые общества более или менее смиряются. Бедность предпочтительна для капитализма, ведь он использует её в качестве рычага, заставляющего коллектив трудиться. Люди вынуждены подчиняться городской дисциплине, требованиям наемного труда или доходам с капитала. Нужно занять определенное место на социальной лестнице, а если этого не сделать, — неминуемо погрузишься в пучину нищеты, социальной поддержки и, в конечном счете, преступности. Получается, что субъективность коллектива, управляемая капитализмом, поляризована в поле ценности: богатство/бедность, дееспособность/недееспособность, интеграция/дезинтеграция. Но действительно ли именно эта система гегемонистского оценивания является единственной из возможных? Является ли она необходимым следствием всякой внятной формы (consistance) социуса? Не можем ли мы высвободить другие способы оценки (ценность солидарности, эстетическая ценность, экологическая ценность и т. д.)? Именно над такой пересборкой ценностей и будет работать экософия. Потому что разделению труда и вовлечению людей в деятельность, признаваемую обществом, всё-таки должна способствовать не только пугающая угроза бедности, а ещё и иные мотивы. Экософская пересборка практик будет происходить на самых повседневных уровнях: личном, семейном или соседском. Она затронет всё вплоть до глобальных геополитических и экологических проблем. Она поставит под сомнение разделение между гражданским и общественным, этическим и политическим. Она переопределит коллективные сборки высказывания, договора и действия. Это приведет не только к «изменению жизни», как того желала контркультура 60-х, но и к изменению способов заниматься урбанизмом, образованием, психиатрией, политикой и регулированием международных отношений. Мы уже не вернемся к «спонтанным» концепциям или к упрощенному самоуправлению. Нужно примирить (faire tenir ensemble) сложную организацию общества и производства с ментальной экологией и новыми типами межличностных отношений.
В таком случае будущее урбанизации приобретёт следующие различные черты, следствия которых часто противоречивы:
1. Усиление гигантизма, что является синонимом растяжения и нагромождения внутренних и внешних сетей сообщения, а также роста загрязнения окружающей среды, зачастую достигающего неприемлемого уровня.
2. Сужение коммуникационных пространств (то, что Поль Вирильо называет «дромосферой» (4)), вызванное ускорением темпов развития транспорта и средств телекоммуникации.
3. Укоренение глобального неравенства между районами городов богатых стран и стран третьего мира, а также неравенства между богатыми и бедными районами внутри самих городов, что только усугубляет проблемы личной и имущественной безопасности; образование практически неконтролируемых районов на окраинах крупных городов — гетто.
4. Двойственное движение. С одной стороны население оседает в «национальном пространстве». Но при этом ужесточается контроль за нелегальной иммиграцией на границах и в аэропортах, проводится политика ограничения иммиграции. С другой стороны наблюдается противоположная тенденция — городской номадизм:
— ежедневный номадизм в результате образования больших расстояний между работой и домом, которое в Токио, например, выросло из-за спекуляций с недвижимостью;
— номадизм «по работе», например, между Эльзасом и Германией, или между Лос-Анджелесом, Сан-Диего и Мексикой;
— давление переселения, оказываемое на богатые страны, со стороны стран третьего мира и стран Востока;
Можно предположить, что в будущем эти движения, которые здесь названы номадическими, станет труднее контролировать, и они выльются в этнические трения, расизм и ксенофобию.
5. Образование «племенных» городских подгрупп, а точнее, групп, выраженных одной или несколькими категориями населения иностранного происхождения (например, в США — черные, китайские, пуэрториканские и чикано кварталы).
[4] P. Virilio, Vitesse et politique, Galilée, Paris, 1977.
Рост некоторых городов, например Мехико, население которого через несколько лет достигнет тридцати миллионов человек и в котором наблюдается рекордный уровень загрязнения и пробок, кажется, напарывается на непреодолимые препятствия. А другие города, например, в Японии, собираются потратить огромное количество ресурсов на внутреннее переустройство. Однако подобное решение явно выходит за рамки урбанизма и экономики, включая в себя другие социально-политические, экологические и этические аспекты.
Города превратились в огромные машины — «мегамашины», как их называет Льюис Мамфорд (5), — которые производят индивидуальную и коллективную субъективность через социальную инфраструктуру (образование, здравоохранение, социальный контроль, культура и т. д.) и СМИ. И мы не можем отделить специфику их физической, коммуникационной и сервисной инфраструктуры от их же функций, которые можно назвать экзистенциальными. Чувственность, интеллект, манеры общения и даже бессознательные фантазмы производятся этими мегамашинами. Отсюда и берётся важность междисциплинарности, которую стоит разделить между собой урбанистам, архитекторам и представителям других дисциплин: социальных, гуманитарных и экологических. Драма города, назревшая к концу XX века, — лишь одно из проявлений более фундаментального кризиса, угрожающего будущему человеческой расы на этой планете. Без радикальной переориентации средств и, прежде всего, целей производства вся биосфера окажется расшатанной и придёт в состояние полной несовместимости с жизнью человека и, в более широком смысле, со всеми формами животного и растительного мира. Такая переориентация требует срочного изменения индустриализации, особенно в химическом и энергетическом секторах, сокращения количества автомобилей или изобретения экологически чистых видов транспорта, а также прекращения масштабной вырубки лесов… И на самом деле, именно дух экономического соперничества между индивидами, предприятиями и странами должен быть поставлен под сомнение прежде всего.
[5] L. Mumford, La Cité à travers l’histoire, Seuil, Paris, 1961.
Степень экологической осознанности среди людей всё еще мала, хоть и главные СМИ начинают уделять большее внимание всем этим вопросам, но только по мере того, как риски становятся всё более очевидными. Но мы все ещё далеки от коллективной воли решить все проблемы от головы до ног и увлечь за собой политические и экономические силы. Некая гонка между коллективной человеческой осознанностью, инстинктом самосохранения в масштабах человечества и катастрофой на горизонте, концом человеческого мира в пределах нескольких десятилетий всё же имеет место! Подобная перспектива, конечно, делает наше время тревожным, но в то же время и захватывающим, потому что этические и политические факторы приобретают новое измерение, которого в ходе истории у них еще не было.
Я не могу не отметить, что будущая экологическая осознанность не должна ограничиваться только факторами окружающей среды, вроде загрязнения атмосферы, последствий глобального потепления и исчезновения многих видов живых существ. Стоит в той же мере сосредоточиться на экологической «разорённости» социального поля и ментальности. Не проделав никакой работы над изменением коллективного отношения и общих привычек, мы остаёмся лишь на уровне «навёрстывания упущенного».
Страны Юга выступают основными жертвами подобной разорённости: ненормальная система, которая в настоящее время регулирует международную торговлю, служит тому причиной. Например, контроль над катастрофическим демографическим ростом, который переживает большинство из этих стран, связан по большей части с преодолением экономического спада, с предпочтением гармоничного развития слепым целям роста, ориентированного исключительно на прибыль. В долгосрочной перспективе богатые страны, придерживаясь подобной политики, вряд ли достигнут многого. Другое дело в том, как им удастся ощутить пропасть, к которой их ведут их же лидеры? Пугала катастрофы или конца света — не всегда лучшие пособники в этих вопросах. Когда народы Германии, Италии и Японии приняли самоубийственную идеологию фашизма, мы воочию убедились в том, что посреди катастрофы, в некоем коллективном предсмертном головокружении, вполне себе может родиться новая катастрофа.
Потому невероятно важно, чтобы новое прогрессивное направление, кристаллизующееся вокруг позитивных ценностей экософии, сделало одним из своих главных приоритетов устранение моральной нищеты и нехватки смысла, которые всё больше и больше влияют на субъективность изгнанного и незастрахованного ни от чего населения, ютящегося в самом сердце капиталистических цитаделей. Нам придется заняться описанием тех чувств одиночества, оставленности и экзистенциальной пустоты, охвативших Европу и США. Миллионы живущих на пособие безработных людей ведут отчаянную жизнь в обществе, единственной целью которого выступает производство клишированных материальных или культурных благ, которые однако не позволяют человеческому потенциалу полно расцвести и развиться. Сегодня мы не можем довольствоваться простым определением города с точки зрения его пространственности. Природа этого явления изменилась. И это уже не просто очередная проблема. Это проблема номер один, возникающая на перекрестке экономических, социальных, идеологических и культурных вопросов. Город определяет судьбу человечества, определяет как его продвижение, так и сегрегацию, определяет образование элит, будущее социальных инноваций и любого творчества. Слишком часто мы сталкиваемся со слепотой к глобальному аспекту всех этих проблем. Политики склонны скидывать эти вопросы на специалистов. Но определенная тенденция всё равно наметилась. Во Франции, под давлением экологов как справа, так и слева, мы наблюдаем своего рода децентрализацию политической жизни к местному городскому уровню. Дебаты Парламента отходят на второй план, уступая тем самым место вопросам, которые стоят на повестке дня прежде всего в крупных городах и регионах. Как будто даже зреют зачатки восстания заместителей мэров Франции против столичного политического штаба. Но всё это — пока ещё робкое развитие событий, которое потом может сильно и глубоко сказаться на политической жизни в целом.
Одним из основных двигателей преобразований города станет изобретение новых технологий, особенно тех, что находятся на стыке аудиовизуальных, информационных и телематических. Мы вкратце рассмотрим, чего можно ожидать в ближайшем будущем:
— возможность выполнять самые разнообразные задачи удалённо, находясь дома, взаимодействуя с различными собеседниками;
— развитие видеофонии в связке с синтезированным человеческим голосом, что значительно упростит использование телесервисов и баз данных, которые заменят библиотеки, архивы и информационные службы;
— глобальное распространение информации по кабелю или телефону, что откроет доступ к широкому спектру программ в области досуга, образования, обучения, информации и покупок с доставкой на дом;
— непосредственная связь с людьми, находящимися в движении в любой точке мира;
— новые, экологически чистые виды транспорта, сочетающие в себе особенности общественного транспорта с особенностями индивидуального (умные автомобили, скоростные пассажирские ленты и робо-мобили на специальных магистралях);
— четкое разделение пешеходных и транспортных зон;
— новые способы доставки товаров (пневмопочта, программируемые конвейерные ленты, обеспечивающие, например, доставку прямо до двери) (6).
[6] Joël de Rosnay, Les Rendez-vous du futur, Fayard, Paris, 1991.
Здания в будущем будут допускать всё более и более смелые решения, всё большую архитектурную и урбанистическую смелость, неотделимую от борьбы с загрязнением и катастрофами (очистка воды, био-разлагаемые отходы, исчезновение токсичных компонентов в продуктах питания и чистящих средствах и т. д.).
Теперь рассмотрим, в силу каких факторов город станет рассматриваться с точки зрения производства им субъективности посредством новых экософских практик:
1. Революция в области информационных технологий, робототехники, телематики и биотехнологий приведет к экспоненциальному росту всех форм материального и нематериального производства. Однако это производство минует создание новых рабочих мест, как это хорошо показано в книге Жака Робена «Менять эпоху» (7). В таких условиях появится всё больше свободного времени и свободной активности. А для чего? Неужто для «халтурок» (petits boulots), как это представляют себе французские власти? Или всё же для развития новых типов социальных отношений, основанных на солидарности, взаимопомощи, жизни по соседству? Для новых практик по защите окружающей среды, новой концепции культуры, менее пассивной перед телевизором, и более творческой…
2. Этот первый фактор усилится вместе с последствиями очень сильного демографического роста, который будет продолжаться в мировом масштабе ещё несколько десятилетий. В первую очередь, это коснётся бедных стран, усилив противоречие между странами, где «что-то происходит» в экономической и культурной областях, и странами пустоты, забвения и жизни, пущенной на самотёк. Тогда же и встанет вопрос о восстановлении разрушенных капитализмом, колониализмом и империализмом форм социальности. Важную роль в этом вопросе должны сыграть обновлённые формы сотрудничества.
3. А в развитых странах будет наблюдаться заметный демографический спад (Северная Америка, Европа, Австралия и т. д.). Во Франции, например, коэффициент рождаемости среди женщин снизился на 30% с 1950 года. Всему этому сопутствует реальное разрушение традиционной структуры семьи (уменьшение числа браков, увеличение числа неженатых партнеров, увеличение числа разводов, постепенное исчезновение семейной солидарности за пределами родительской ячейки и т. д.). Эта изоляция индивидов и самозамкнутых семей никак не компенсируется созданием новых социальных отношений. Соседство, община, профсоюз или религиозное объединение остаются застойными и в целом исчезают, — их компенсирует пассивное и инфантилизирующее потребление масс-медиа. Обломки семьи — это зачастую регрессивное и конфликтное убежище. А новый индивидуализм, утвердившийся в развитых обществах, даже внутри семьи, — совсем не синоним социального освобождения. Поэтому архитекторам, урбанистам, социологам и психологам придётся подумать о том, что может взять на себя роль ресоциализации индивидов, что пересоберёт социальную структуру, — важно учесть, что, скорее всего, возврата к реорганизации древних семейных структур не будет (8), как и древних пособнических отношений и т. д., и что новый индивидуализм не станет самоцелью.
4. Развитие информационных технологий и технологий управления позволит взглянуть на иерархические отношения, которые сегодня существуют между городами и между районами в пределах одного города, иначе. В настоящее время Париж осуществляет управление более 80% средних и крупных компаний, имеющих представительства во всех частях Франции. В то же время Лион, второй по величине город Франции, располагает полномочиями лишь на 3%, а остальным вовсе остаётся 2%. Но телематика должна позволить что-то поменять в подобном централизме. По аналогии можно предположить, что во всех областях демократической жизни, особенно на уровне отдельной местности, станут возможны новые формы телематики.
5. Для культуры и образования доступ к множеству кабельных каналов, базам данных, фильмотекам и т. д. может открыть множество возможностей, особенно в области институциональной креативности.
[7] Jacques Robin, Changer d’ère, Le Seuil, Paris, 1989.
[8] Louis Roussel, « L’avenir de la famille », in La recherche, n° 14, Paris, octobre 1989.
Но каждая перспектива из нашего списка будет иметь смысл, лишь направляясь настоящим социальным экспериментированием, которое ведёт к коллективному приданию цены и переприсвоению, обогащающим индивидуальную и коллективную субъективность. К сожалению, с современными средствами массовой информации происходит обратное: они работают в направлении упрощения, сериализации и обеднения «Субъективного Города» в целом. Мне кажется, при разработке программ строительства новых городов, реконструкции старых кварталов или переустройства промышленных заброшенных зон, стоит заключать крупные контракты на проведение исследований и социальных экспериментов не только с исследователями в области социальных наук, но и с будущими жителями этих зданий. Так можно изучить, какими могут быть новые способы жить в доме, новые практики жизни в квартале, какими могут быть новые образование, культура, спорт, уход за детьми, пожилыми людьми, больными и т. д.
По факту всё, что нужно для изменения жизни, находятся у нас под рукой. Не хватает лишь желания и политической воли, чтобы за все эти преобразования взяться. Эти новые практики затрагивают способы использования времени, освобождённого современной машинизацией, затрагивают новые представления об отношениях с детьми, с женщинами, с пожилыми людьми, о межкультурных отношениях… Единственным условием подобных изменений остаётся лишь осознание, что изменить существующее положение вещей можно и нужно, и что нет ничего более срочного. Экспериментировать с новыми способами жизни, а не с законами и технократическими циркулярами, можно только в состязательной и свободной атмосфере. В итоге такая пересборка городской жизни способствует глубоким изменениям в мировом разделении труда и, в частности, тому, что страны третьего мира уже могут не рассматриваться как нуждающиеся. Но и необходимо исчезновение старых международных антагонизмов, вслед за которым последовала бы общая политика разоружения: она позволит направить значительную часть средств на экспериментирование над новым урбанизмом.
Есть момент, на котором я настаиваю отдельно, — это эмансипация женщин. Переизобретение социал-демократии по большому счёту зависит от того, смогут ли женщины взять на себя свои обязанности на любом из уровней общества. Образование и масс-медиа лишь обостряют психологическое и социальное неравенство между мужчинами и женщинами. Мужчины ставятся в конкурентную систему ценностей, а женщины — в пассивную позицию. И это свидетельствует о глубоком непонимании пространства как места экзистенциального благополучия. Следует изобрести новую мягкость, иную способность слышать другого со всей его инаковостью и неповторимостью. Долго ли придётся ожидать глобальных политических преобразований, прежде чем совершить такие молекулярные революции, которые должны помочь изменить ментальность? Есть определённая взаимозависимость: с одной стороны, общество, политика и экономика не могут развиваться без перемен в ментальности коллектива, а с другой — ментальность меняется лишь тогда, когда мировое сообщество подстраивается под движение перемен. Одним из способов устранить это противоречие станет социальное экспериментирование огромных масштабов, за которое как раз мы и выступаем. Вызвать желание перемен можно с помощью нескольких экспериментов над жильём. Пример тому «инициативный» эксперимент Селестена Френе, полностью переосмыслившего школьный класс. По своей природе городской объект очень сложен, и к нему нужно подходить так, как того требует его устройство. Социальное экспериментирование нацелено на особые виды «аттракторов», сравнимых с теми, что существуют в физике хаотических процессов (9). Из хаоса, ныне присущего нашим городам, может сформироваться «мутировавший» объективный порядок, а также новая поэзия или новое искусство жить. Эта «логика хаоса» требует от нас полного учёта всех ситуаций во всей их неповторимости. Речь идёт о вхождении в процесс ресингуляризации и [согласии] c необратимостью времени (10). И мы должны строить не только реальный мир, но и возможный. Возможный мир, допускающий побуждаемые им разветвления; строить, оставляя возможность виртуальных мутаций, которые приведут к тому, что будущие поколения будут жить, чувствовать и думать иначе, чем сегодня, учитывая огромные преобразования, особенно технологического характера, которые претерпевает наша эпоха. Было бы идеально изменить устройство пространств строительства, учитывая институциональные и функциональные мутации, ожидающие их в будущем.
[9] James Gleick, La Théorie du chaos, Albin Michel, Paris, 1989.
[10] I. Prigorine et I. Stengers, Entre le temps et l’éternité, Fayard, Paris, 1988.
Поэтому экософская пересборка архитектурных и урбанистических практик в этом отношении может стать решающей. Создать стандартное жильё, основанное на так называемых «фундаментальных потребностях, определенных раз и навсегда» долгое время было основной целью модернистов. Речь идёт о догме, представленной так называемой «Афинской хартией» 1933 года, являющей собой синтез работ CIAM (Международного конгресса современной архитектуры), аннотированную версию которой Ле Корбюзье выпустил десять лет спустя, и которая стала теоретическим кредо нескольких поколений урбанистов. Подобные перспективы универсалистского модернизма окончательно устарели. Современные архитекторы и урбанисты должны стать художниками многозначности и многоголосия. Им предстоит работать с человеческим и социальным материалом, который не является универсальным. С индивидуальными и коллективными проектами, которые развиваются всё быстрее и быстрее, и чья сингулярность — в том числе эстетическая — должна быть обнаружена силами самой настоящей майевтики, включающей, в частности, процедуры институционального анализа и исследования субъективных образований бессознательного. В таких условиях архитектурный эскиз или урбанистическую программу следует продумывать в их движении, в их диалектике. Они призваны стать многомерными картографиями [процессов] производства субъективности. Чаяния коллективов очень быстро меняются и будут меняться в будущем. Однако качество производства этой новой субъективности должно стать основной целью человеческой деятельности, а соответствующие технологии должны пойти ей в помощь. Такая пересборка — дело не только одних специалистов, она требует вовлечения всех, составляющих «Субъективный Город».
Дикий номадизм современной детерриториализации взывает к «трансверсальному» пониманию субъективности на пути выбранной ею эмерджентности. К пониманию, которое стремится проявить точки сингулярности (например, особое устройство местности или среды, специфические экзистенциальные измерения, пространство, каким его видят дети, физически неполноценные или душевнобольные), и виртуальные функциональные трансформации (пример тому, педагогические инновации), в то же время утверждая стиль и дух (inspiration), позволяющие с первого взгляда узнать индивидуальную или коллективную подпись творца. Сложность архитектуры и урбанизма найдет свое диалектическое выражение в технологиях эскиза и программы, — теперь уже компьютерных, — которые не замкнуться на себе, но станут сочленяться с множеством сборок акта высказывания, целью которого они являются. Здание и город представляют собой тип объектов, в которые заложены субъективные функции, — это частичные «объекты-субъекты». Эти функции субъективации «часть за частью», представленные в пространстве города, не могут быть оставлены на волю капризов рынка недвижимости, технократических программ и среднего вкуса потребителей.
Всё это следует принять во внимание, однако в тоже время всё это должно оставаться относительным. Подобно тому, как дирижёр оркестра всякий раз оживляет музыкальные филумы (партитуры) совершенно по-новому, в работе архитектора и урбаниста всё это должно быть переработано и проинтерпретировано по-новому так же. С одной стороны, эта субъективация «часть за частью» будет склонна держаться за прошлое, за культурные реминисценции, за обнадёживающие запасы, но с другой стороны, она будет вечно пребывать в поиске моментов неожиданности, новшеств в своих способах смотреть, пусть это и сулит ей некоторую нестабильность. Подобные разрывы, очаги сингуляризации не поддаются рассмотрению со стороны обычных процедур консенсуса и демократии. По сути, речь идёт о том, чтобы осуществить перенос сингулярности (transfert de singularité) между художником-творцом пространства и коллективной субъективностью. Таким образом, архитектор и урбанист, с одной стороны, окажутся зажатыми между хаотическим номадизмом неконтролируемой урбанизации, регулируемой лишь технократическими и финансовыми институтами, и их собственным экософским номадизмом, выражающемся в их диаграмматическом способе проектировать (projectualité diagrammatique).
Это взаимодействие между индивидуальным творчеством и многочисленными материальными и социальными ограничениями, тем не менее, подвергается проверке на подлинность: существует некий порог, после которого архитектурный объект или урбанистический объект схватываются в субъект высказывания (acquièrent leur propre consistance d’énonciateur subjectif). Так вот, объект либо оживает, либо остаётся мёртв!
Трудность положения архитектора и урбаниста очень велика, но увлекательна, если учесть их эстетическую, этическую и политическую ответственности. Находясь в глуби консенсуса демократического города, своими эскизами и замыслами (dessin et dessein) они должны маневрировать [машиной] Субъективного Города на решающих поворотах его судьбы. С их помощью человечеству либо удастся переосмыслить собственное городское будущее, либо ему будет суждено сгинуть под тяжестью собственной неподвижности, которая сегодня грозится сделать его бессильным перед лицом необычных вызовов, ему брошенных.
Переведено для Post-Marxist Studies: https://t.me/post_marxist_studies
