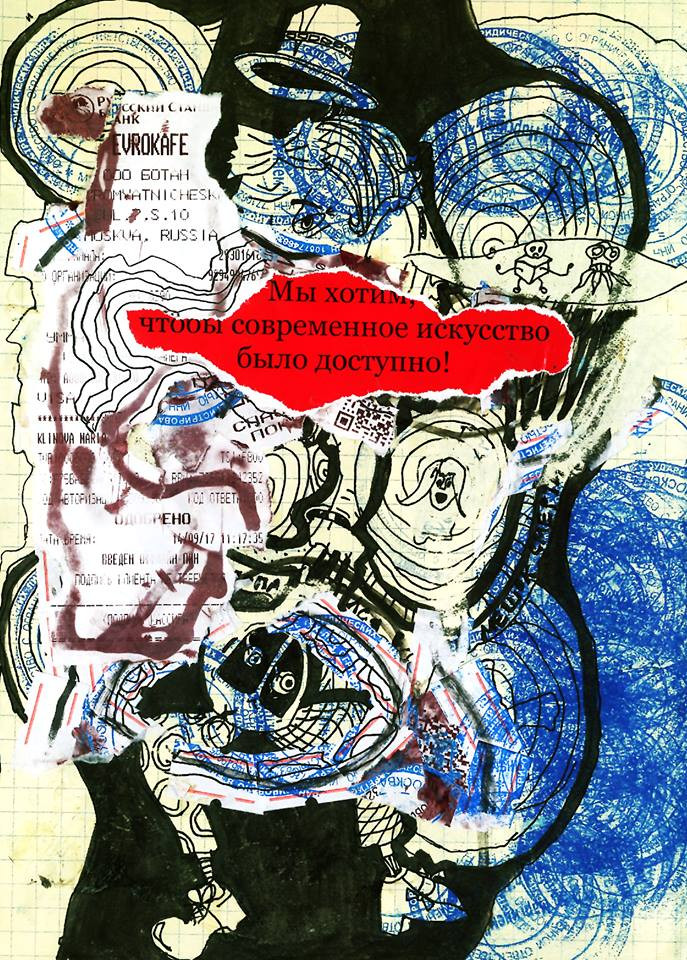Это не так, что рецензия — реакции по ходу чтения. Там выглядит так, первый [ranit odnogo, zadenet vseh] и второй [необходимость опровержения негативных последствий] тексты стоят в обратном порядке. Если исходить из какой-то бытовой логики. Во втором тексте задана некая персонажность, которая работает на таких и сяких слоях (восприятия, оценок, связок и т.п.). В первом же, по факту, ощущается устройство типового в этих текстах (я не выясняю — проза, поэзия) персонажа (кого-то-чего-то, что производит высказывания). Но, собственно, вполне логично именно так: сначала устройство, потом приложения. По мне, это хороший вариант — высказывания таковы, что (по первому тексту, да и на второй отчасти распространяется) понять это устройство нельзя. Не так, что невозможно, но оно себя как-то нечетко (в хорошем смысле) предъявляет в высказываниях — относящихся к весьма разным… пространствам, что ли. Если банально, то все время выскакивает тема квестов, но они тут явно фиктивны.
Кайф в том, что ситуация неопределенности персонажа-устройства-точки (из-которой-производятся-высказывания) и не предполагает фокусировки этого всего во что-то стабильное. То есть эти квесты разгадывать и не надо, незачем. Постоянного пространства, из которого такие и сякие фактуры видны так, как о них написано — просто нет. Понятно, что эта точка (зрения, ощущения, письма) с ними всеми соприкасается (раз уж они упоминаются) и даже имеет в отношении них какие-то эмоции (может, внеэмоциональные эмоции, голая реакция-упоминание), но постоянной позиции быть не может. «Стихии против капиталистов» в этом окружении выглядят уже почти промышленным продуктом, как применение данного финта к конкретным словам из названия («против» тут уже тоже наполовину существительное).
Ну да, я тут могу излагать что-то, что связано с тем, с чем сейчас мурыжусь сам, но какие-то эти свойства у этих текстов присутствуют. В первом тексте еще и плавающая привязка точки зрения, являющаяся персонажем (a ja). Прилепляется к тому, к той, еще к чему-то. Логично, была бы сама точка, а на ком она сейчас приклеена — все равно. Даже если эта точка в разных позициях по-разному что-то оценит / к чему-то отнесется. То есть не по-разному и быть не может.
Еще побочные рассуждения о нюансах метода (как он выглядит для меня). В переписке автором было упомянуто, что «новая добавляемая текстами-поверхностями способность языка — это ни к чему не отсылать». Имхо, тут не «новая добавляемая способность языка», это естественное свойство любого интерфейса: он занят самим собой, какие для него еще отсылки. Ну да, можно его деятельность языком и называть, хотя вряд ли язык as it is такой интерфейс осуществляет.
Также detected варианты от прямо-манипуляционных (работа с «ожиданиями читателя»), до само-манипуляционных (ожидание автора, что у читателя есть ожидания). Во вменяемой прозе ничто вообще не обещает читателю, что он воспримет ровно то, что как бы сообщает автор. Там работают совсем уж частные индрии, позиции автора в принципе не перевести в соответствующие позиции читателя, что и славно. Все как-то происходит и без выстраивания соответствия. Каким-то образом. Зазор между пространствами текста и пространствами его чтения вполне тавтология (раз уж они определены как разные пространства), интерфейс между ними неизбежен, так что еще и отдельная «интерактивность» выглядит даже и не тавтологией, а позицией. Тут уже авторское целеполагание: то ли просто продемонстировать машинку, то ли что-то ей даже и делать (вплоть до паралитературы, она не обязательна). Это, собственно, ресурс: почему бы не юзать тавтологии?
Если, разумеется, тут вообще речь о читателе, то есть — про обустройство интерфейса, имея в виду его интересы. Похоже, что тавтология рассосется, если юзать ее намеренно (то есть — чрезмерно), при этом «читатель» — условный и речь о самом этом, вполне естественном интерфейсе промежутка между «внутри» и «снаружи». Он и оказывается предметом письма. Чем, собственно, не Fluxus, ну, а Fluxus применительно к текстам — тема не обмякшая. Конечно, это уже полное имхо (когда-то давно у меня был текст «Перевод» («Данный текст является процессом перевода статьи Петра Рипсона (Piotr Rypson) “What past is present?”…)), что, безусловно, аннулирует мою объективность. Но и является примером того, как этот интерфейс работает. Так что и книга работает, а эта рецензия-не-рецензия сделана на той же, в общем, штуке.