волосы растут через кожу
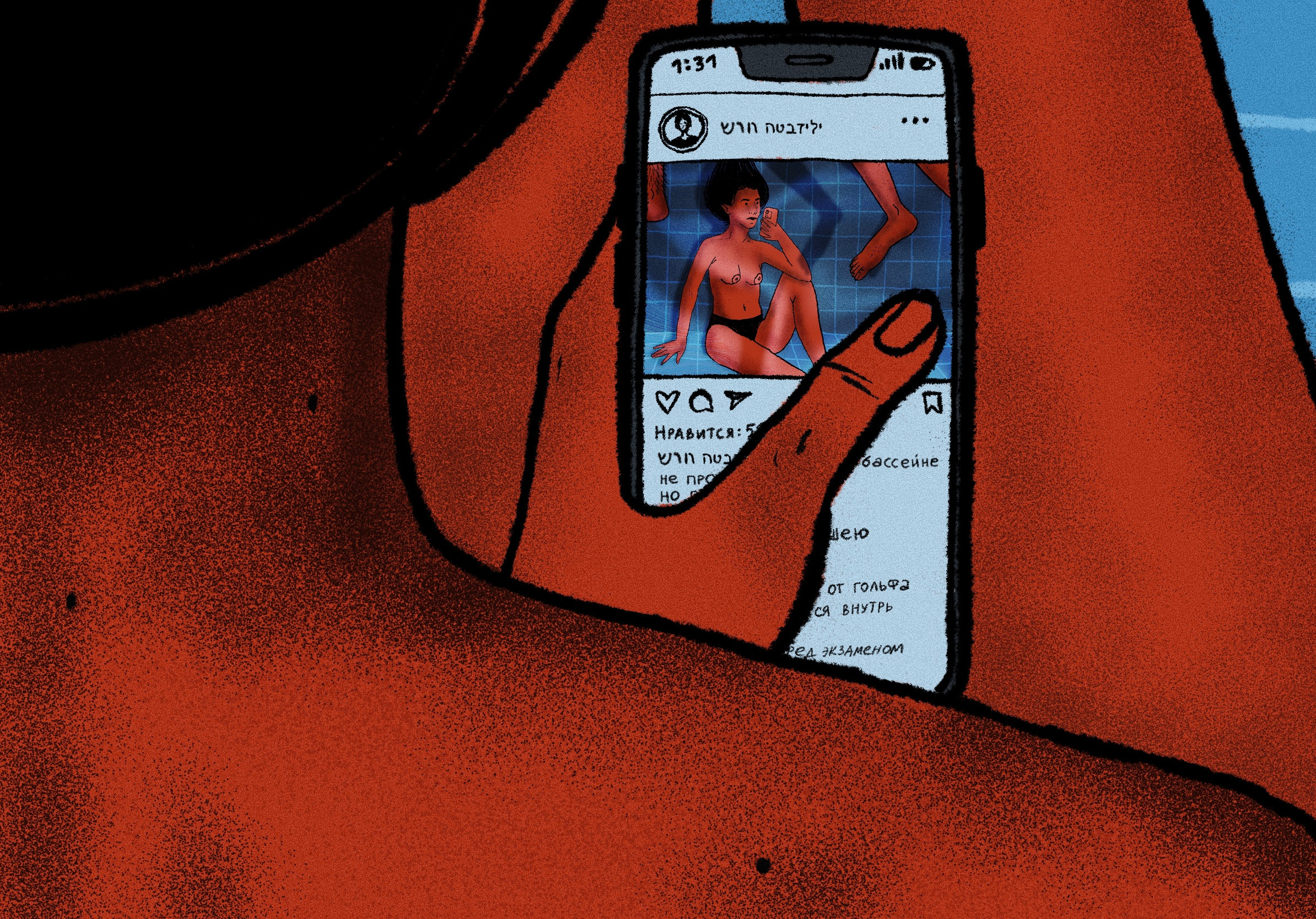
Луна
неуверенная невесомость не знает,
как реагировать на звёздные
колебания
до нового времени ночь
начиналась с нуля, но
подкатывалась к единице; это
декарт придумал брать точку отсчета
иначе
тосканские евреи врачи не ходили
на дом, даже если дети блевали кашей
они берегли твое время
и хотя я не знаю твоих нынешних
называний, мятых, как спины цветков,
знаю, что, как у меня, на лице твоем
ямок сотни
Из цикла «франкфурт вокруг да около»
Герберт Маркузе на приеме у
не уверена, что смогу описать это
округлая, говорливая
обступаемая тканями–киселями
не даёт обхватить себя, как
малиновка в двустороннем глазу экрана
никогда ещё мне не приходилось
отчуждать этот кусочек мяса
с недифференцированными краями
структурами, измененными, как дети
узнавшие высоты деревьев на ощупь
покатых ногтей
мне не приходилось сидеть в окопах,
но я читал книги тех,
кто делал что-то подобное –
делил имущество в течение неприятного развода,
умирал, коллекционировал краденые
клочки земли, употреблял слово краали
по отношению к неаполю, будто бы в этом
есть смысл. не могу сказать, что меня волновали евреи
— маркс уже написал об этом — просто
что-то тащилось в глотке, что-то
капало с носа что-то
было тобой
можно ли раскусить лимфому,
как вещество липкого содержания
подцепить мешочек по шву лишним пальцем
тянуть да потягивать, вопрошая
по что, о боже, в глотке моей
завелись острые постраничные
сноски, согнутые на ильменау,
как на коленях моих, и отец никогда
не говорил мне, что это приходит с взрослением
ваш отец слушал алеф — гортанная смычка –
голос закрыв, не пропустив вперед
ни женщину, ни войну, один ты,
единственный в семье протерший
небо надбровными дугами,
решил открывать рот, целуясь,
заронил косточки, вот они
и растут, шейные исполины
там же где миндалины
даже нёбо своё
попробуйте покашлять, попробуйте
вспомнить, когда вы последний раз
называли себя немецким сыном,
когда последний раз говорили
хаймат–ланд, не хватаясь за горло в удушье
когда перерастали отца, попирая стенами дом,
когда вам казалось, будто вы возжелали
мать свою, когда в последний раз вы
зубы выдёргивали колесом иксионовым?
необратимая капелька крови
бежит от кристального глаза
ультразвуковой глухоты
только развоплощённая, она нежно
падает в ладони, плаксивая, как ребёнок
на другой стороне реки
выходит с того бумажного молочного слоя
чуть ниже пенки
который не размякали до переезда
и только при переборе анализов
почувствовали под руками жилку
извилистую, как рыбку в щеке
пористого юноши
с тех пор и повелось,
что мы с отцом, мол, очень похожи
травелог вальтера беньямина после самоубийства в портбоу; гендерные окончания изменены в связи с необходимостью переправы через испанию в соединенные штаты америки
непонятно, как писать
про это самое путешествие:
нельзя представлять иным
нельзя присваивать
нельзя делать вид, что понимаешь
нельзя не понимать чего-то,
легкого, как расстояние между двумя
влажными яблоками луж
многоглазая земля смотрит наверх
сопротивляться ей труднопредставимо
и не время
отправляясь туда, я знаю
спасение невозможно
да и как? я
не видела семян, которые едят здесь
птицы, не представляю, как
хоронят копчущих лошадей, где
откапывают слово холка, кадык
для краткого некролога
даже помыслить не могу, в каком
поясе круглой земли располагается
этот ассоциативный ряд
в голове у меня есть только одно слово
для снега; пара для жары и зноя;
половинка слоговой смычки для тшшш
на случай опасного зверя с косой
щекой, совсем мало для воды
на чужом языке, пьющем быстрее
рассвета из глубины спящего уха
раковина сворачивает горошину
капли и слышит приближение чивчих
смири взгляд двояковыпуклая
линза, ты дважды встряхиваешь сосуд
стоящий в цветах, и кашица его нутра
глотается снова, разглаживаясь, как ось
бедная, бедная сосудица! чтобы привидеться
мне, ты обогнула мнимый экран
дважды. пожаловалась на голод
у меня не было масла прокормиться
тя ею, я поела сама, и твой орнамент
в груди отсылал к неизвестным историям
записанным под духовые инструменты
тихие, как белые точки на листьях
избыток хрупкости влаги на скользких
небах. их много, как в кубике, но вертеть
едва можно: крупинки — белая гречка –
катятся вниз к поверхностной грани
черви падают, как полные
ветви, не знаю ни одного
совпадения с местностью,
откуда пришла я, ведь и там
ночь неуютно ощупывала мои
красные от укусов снежных мошек мхов
пальцы, погружала их в престоявшую
гущу, не давала понять, куда ушли те,
с кем я выращивала эти сады в дни,
когда можно было вернуть назад
шаг в треугольном луче чечевичной
волны в высоту шестилетнего возраста
может, поменьше
Теодор Адорно подступается к написанию стихотворения
I. пройдя путь ещё раз, я бы отказался от этого:
даже разрушая ритм, мы не удовлетворяемся,
не эмансипированные от традиции, как рабочей
недели, нам мало и отсутствия рифмы, хочется
широкого поля, не от крика до тишины,
может, от земли до корня, в размахе
двух ног вкопанных, как стояние
II. стихотворение слишком маленькое стихотворение,
оно не выполняет ни одного обещания
под ним я чувствую себя аяксом,
мама ушла, лента в магазине движется быстрее,
чем ладонь, обгоняющая тело на эскалаторе,
воскресенье слишком малое воскресенье,
не дождаться ни отца, ни продетых
между двух дней проводков, веер
женщины, забытый, подобранный
бергсоном, растянутый, словно дудочка
выдутая из легкого света, прилежный
корпус дома прислонён к глазам и векам,
как сюда вернуться, ведь я всё ещё у стены трои,
мама не пришла, в очереди
заканчиваются пассажиры, монет
не хватит на глаз — или за глаза.
III. никоим образом не хочу сказать,
будто звук, выгибаясь в окно, искажает время,
просто и партитура иногда оборачивается
бледной кожаной стороной, и волшебная флейта
душит мальчика-музыканта, меня, опрокидывая
воздушную тарелку в трахею не уже,
чем рубежа веков, над которой я переходил
дом, нависной мостик, птичий день,
люди, спасая планету, относят серьги
в пещеру горного короля, гармония
разрушается, помада остается в патроне,
мать не выходит к гостям, ратуша,
вводящая в город время, зажимает в себе
звонаря, тщедуш воли, оттянутый шаг
все, кто когда-либо пёк суфганийот, знает
цену детства на рубеже газового рожка
и неба, нагретого от него — путь молока
свернулся, стал плохо пахнуть, люди
отвернулись от него и стали справлять прошлое
в солёной воде, я полз, пока не пришёл
в себя
IV. узнавание образов исходит на пену
двух рек, в каждую можно войти
около сотни раз, прошлое переживает
себя и другого в движении и белейших
пятнах на ткани, где мелькали
шаги, прошлое, по большому счету,
никогда не имело своих ног, это
ты, больной старый дядюшка,
двигал со мной леску, червяк
цеплялся за горло — это называли
ангиной, крючок продевал воды,
как уловка, все верили, я
подсматривал при молитве
и в это время остывающий
край тарелки отодвигал мне вечность
гершом шолем — вальтеру беньямину
друг мой, видишь ли,
иногда тут на проводах в ряд
сидят птицы. дальние, по прошествию
шага, будто летят со мной. кислый сад
дребезжит передними, лестница
закрывает то рот мой, то брови: не удивиться.
бреюсь по утрам, становлюсь никем
и в нигде, да, ты скажешь, как благостно это –
никем в нигде, после — запёкшаяся еда,
масляные разводы на документе, справа
налево сушатся платья женщин, и сердца
их мокры, как стёкла. тут растут
непростые слова, — печалуйся, пружина,
превратный — и я неторопливо их беру
в ладонь холма и он сползает в ветер
как между статикой и голосом живой
всегда решает дергаться собой
в беззвёздном теле. друг, твоя смерть
заставила птиц сидеть на проводах
в другом порядке, теперь ближние
стояли на месте, дальние не находили
слов, солнце заходило невпопад,
не на той стороне.
сложно думать, но, вероятно
придётся описать тебя таким,
каким я знал. я держу в руках
мягкое лицо, неизвестные
шары облепляют столбы, кожа
больше схожа с подошвой, чем
книгой. неужели столбец меняет то
как это будут читать? в частностях
это неважно, они будут быть репликами
очертанных овц, коз — было бы что считать.
в нескольких рукавах я нахожу твои мощи,
только трупный холод помог в них не растаять
московскому снегу и нескольким стенограммам;
я держу в руках анимальные баловства. стёкла,
шеи, запястья. на подушке выкладывается натюрморт
из нескольких мягких частиц ссыпается человек,
даже великий философ. от морской воды у него
щиплет в носу, зато слизистая черна, как воздушный
корабль, как легко дышится бронхами, выходящими
к поверхностям окон. друг, в иерусалиме ты
будешь несколько дней, пока птицы не понесут
кальций да воск. как справляемся, спрашиваешь?
с божьей помощью да и только: высыхает слюна,
но рекам хоть бы хны, на коленях пишу
новую книгу, ты лежишь на моей кровати,
как память о тебе, то есть никак иначе:
грузные веки, черепахи на подоконниках, лежачие
кипарисы, как и больные, капризны, забывают
место и положение. осторожнее:
просыпайся. держи голову. возвращайся.
Толкование стихотворения Дьёрдом Лукачем, произведённое на стуле ученице Агнеш Хеллер
Никогда и ничто не было проблематичным в этой жизни
С. Б.
массовый труд тысячи стре
коз. грушевый ковшик, водяная мельница —
все боятся остановиться.
почему так много марксистов
вышло из неокантианцев?
гласное зияние помогало представить —
два предмета, оставленные глазами,
ведут бурую жизнь. лампочка закутана
в одеяло, блеяние козы не совпадает
с открытой мордой, сетка стре
коз не пропускает более двух телец,
в небе или на пашне.
мы передаём на носах поры
грибов, молчаливых, как улья —
реалистическая уловка пожарной сирены;
отчуждаемое немит, как рыба, наконец,
заговорившая в капюшон вод.
смор! од! отвечай за дела свои,
туманности кислых мест, наивности
отражений. кто, кто возделал тебя,
возделал ли тебя кто? где тот
несчастный, с порванными колготками,
саднящим
подвязанный локтем, как дерево
слив. в зеркале, где у меня распухло лицо,
веток не было.
многое я тогда поняла про вашу литературу!
и снег не отследит, куда пойдёт —
в компот, в компост, в другую живность.
и как же можно настоящим звать
две разные воды, в щеках, под языком,
с таблеткой и малиновым секретом.
казуальности смялись гармошкой
прыгают из коробки, я не отвечаю ни за что,
только чищу окно, из которого вырастает мир
неотражённый, как книжка наизусть.
большой ум отражается в лбу того,
кто видит в мелких крылках стре
козы густое молоко и рог ракушчий
друг друга отражаются в земле
коренья головы и парашюты
в теплице греется гуманитарный кризис
и отчужденный тешеный мемисис
в пустотах насекомые замле
кать учаться. в экстерре две Земли
отдых теней в кромешностях
звук не запоминает дороги обратно
перелётные звери зимуют
в безвестных ключицах
горизонтов. как хорошо, что море
всегда поднимается, как реальность,
над ватерлинией.
есть с чем сравнить
фотографию, направленную
к распахнутой форточке
в назидание миру
вот каким
ты стал один раз
в моих глазастых
словечках
отвечай подобру-поздорову
можно ли приколоть тебя пухом к карману
жечь пока озеро не опустится по уши
и не станет солёно на вкус
имя и прозвище мое, агнеш
то стрекоза земная
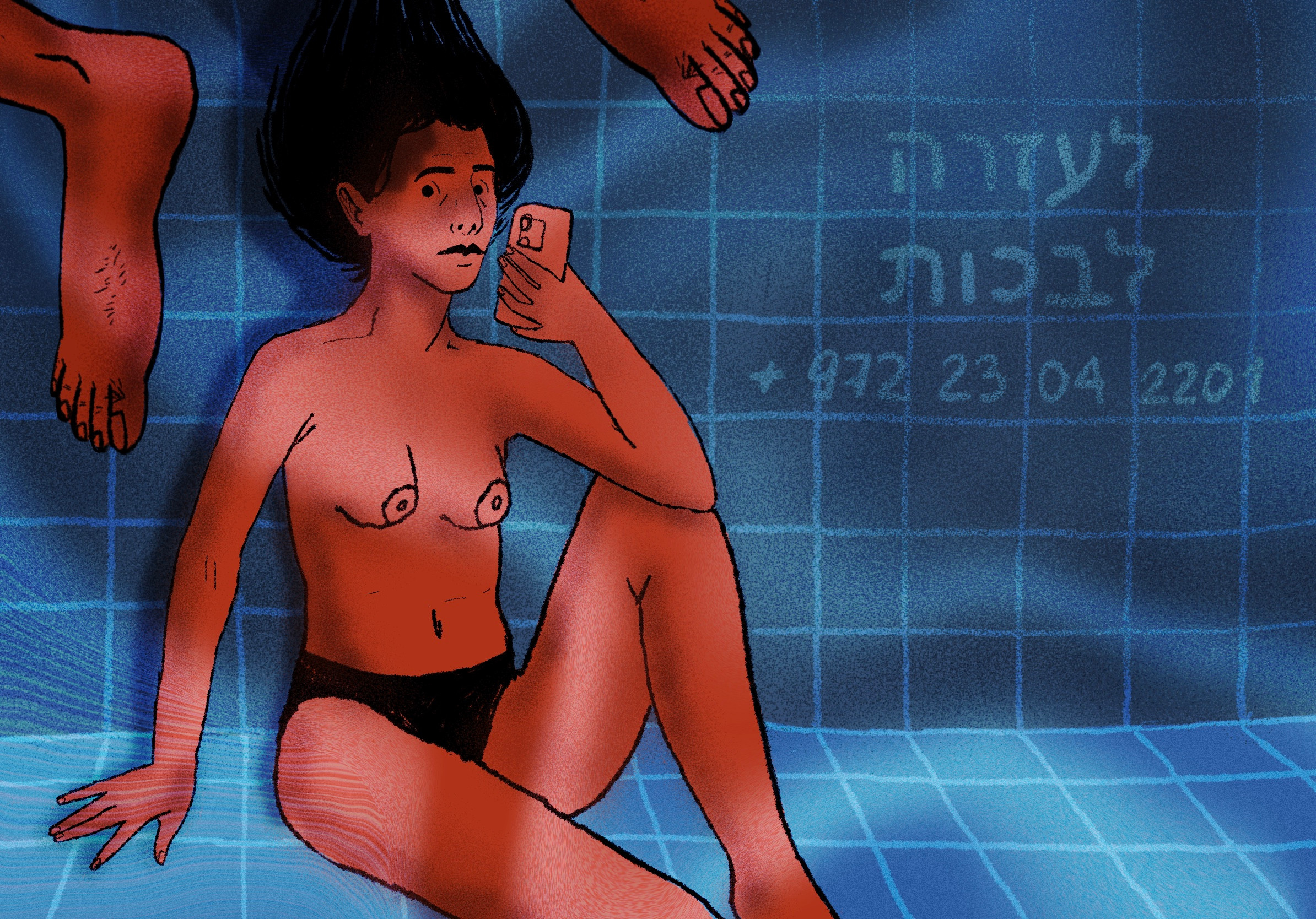
Авторка — Елизавета Хереш, поэтка, исследовательница литературы, редакторка журнала «Флаги». Родилась в 2002 году в Москве. Учится на филологическом факультете НИУ ВШЭ. Дебютная публикация стихотворений — в разделе «Мастерская» на «Флагах». Публиковалась в журнале «Формаслов», «Кварта», «всеализм». Живёт в Москве.
Выпускающая редакторка — Софья Суркова
