Жак Лакан. Вмешательство в перенос
[*] Название этой статьи, «Intervention sur le transfert», во французском языке может иметь несколько значений. Самый очевидный перевод слова «intervention» как «выступление» отражает тот факт, что для публикации в журнале La Revue Française de Psychanalyse (январь–июнь 1952 года, том XVI, n° 1-2, стр. 154-163.) эта статья была подготовлена на основе доклада, сделанного Ж. Лаканом на 14-й конференции франкоязычных психоаналитиков, в ответ на сообщение Д. Лагаша «Проблема переноса» и работу М. Шлюмберже «Введение в изучение переноса в психоаналитической клинике». Предлагаемый нами вариант перевода слова «intervention» как «вмешательство» связан с желанием перепогрузить этот текст в логику аналитического дискурса, отсылающего к вопросам техники психоанализа, а именно к интерпретации, способной преодолеть застой аналитической диалектики. Также, на наш взгляд, будет не лишним добавить, что во французском языке у этого слова есть коннотация, связанная с точным и своевременным реагированием (например, спасательных служб) на ситуации, требующие вмешательства. — Примеч. переводчиков.
[**] Русскоговорящему читателю этот текст известен как «Слово о переносе» в переводе А.Черноглазова, см. МПЖ № 3, МПЖ № 8
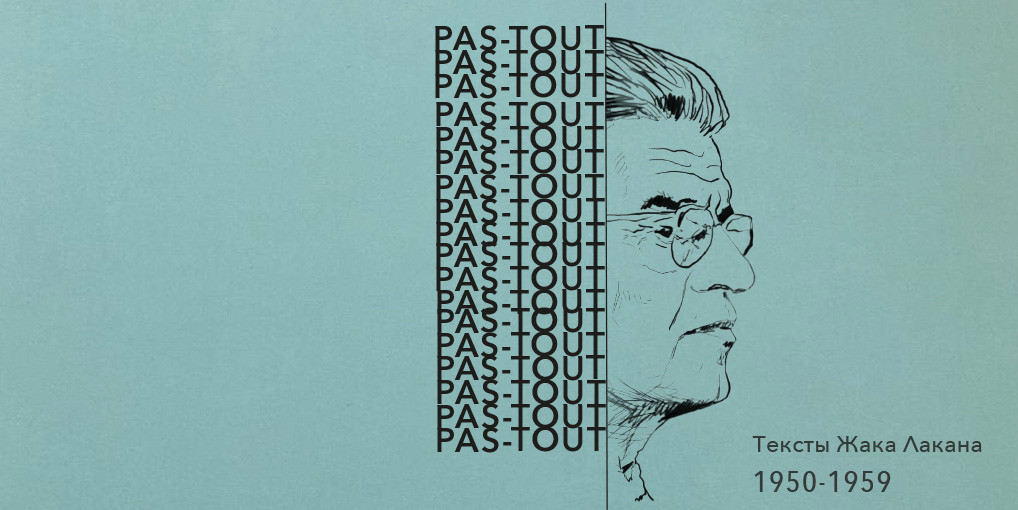
Наш коллега Морис Бенасси своим замечанием о том, что эффект Зейгарник, похоже, больше зависит от переноса, чем определяет его, ввел в психотехнический опыт то, что можно назвать фактами сопротивления. Их значение состоит в том, чтобы подчеркнуть приоритет связи между субъектами во всех реакциях отдельного индивида в той мере, в какой они являются человеческими, а также доминирование этой связи в любом исследовании индивидуальных особенностей, независимо от того, определяется ли это исследование условиями задачи или ситуации.
Психоаналитический опыт должен быть понят как целиком и полностью протекающий в рамках этой связи между субъектами. Это означает, что он сохраняет измерение, которое не сводимо к любой психологии, рассматриваемой как объективация определенных свойств индивида.
В психоанализе действительно субъект, строго говоря, конституируется дискурсом, в который само присутствие психоаналитика, еще до любого вмешательства, вносит измерение диалога. Какую бы безответственность, какую бы непоследовательность не налагали условия основного правила на принцип этого дискурса, ясно, что это всего лишь уловки инженера[1], обеспечивающие преодоление определенных запруд, и что течение должно продолжаться по своим собственным законам гравитации, которая называется истиной. Именно она, по сути дела, является именем того идеального движения, которое дискурс вводит в реальность. Короче говоря, психоанализ — это диалектический опыт, и это понятие должно иметь приоритетное значение, когда мы ставим вопрос о природе переноса.
Продолжая это направление мысли, я не преследую никакой другой цели, кроме как показать на примере, к каким пропозициям можно прийти. Но сначала я хотел бы сделать несколько замечаний, которые кажутся мне безотлагательными для нынешнего направления наших усилий по развитию теории, вместе с тем они касаются ответственности, возложенной на нас историческим моментом, в котором мы живем, не в меньшей степени, чем традицией, которую мы храним.
Если подход к психоанализу как к диалектике должен быть представлен как самостоятельное направление нашей рефлексии, не можем ли мы обратить внимание на некоторое непризнание непосредственной данности, вернее, даже общепризнанного факта, того факта, что мы оперируем только словами, — и признать в связи с особым вниманием, которое в психологической работе уделяют функции безмолвных черт поведения, преимущество аналитика перед той точкой зрения, для которой субъект не является ничем иным, как объектом? Если действительно имеет место непризнание, мы должны исследовать его в соответствии с методами, которые применили бы в любом подобном случае.
Как вы знаете, я склонен думать, что в то время как психология, а вместе с ней и все гуманитарные науки — пусть не по своей воле, вернее, даже неосознанно — серьезно перестроили свои взгляды под влиянием понятий, разработанных психоанализом, среди психоаналитиков, похоже, происходит ровно противоположное движение, которое я бы выразил следующим образом.
Если Фрейд — в отличие от Гесиода, для которого болезни, посланные Зевсом, поражают людей в полном молчании — когда-то взял на себя ответственность показать нам, что существуют болезни, которые говорят, и заставил нас услышать ту истину, которую они высказывают, то теперь тем практикам которые увековечивают эту технику, эта истина, по мере того, как ее связь с историческим моментом и кризисом институций становится все более очевидной, внушает все большее опасение.
Таким образом, мы видим, как они в разнообразных формах, от пиетизма до идеалов самой вульгарной эффективности, проходя через гамму натуралистических пропедевтик, укрываются под крылом психологизма, который, овеществляя человеческое существование, пойдет, по-видимому, на злодеяния, по сравнению с которыми проступки сциентизма физиков окажутся просто ерундой.
Так как в соответствии с силой тех самых пружин, что обнаруживает анализ, это не что иное, как новый тип отчуждения человека, который осуществится в реальности как силой коллективного верования, так и посредством отбора техник, которым будет присущ формообразующий характер ритуалов… Короче говоря, homo psychologicus — опасность, против которой я выступаю.
В связи с этим я задаюсь вопросом, позволим ли мы себе увлечься его производством или, переосмыслив работу Фрейда, сможем заново открыть подлинное значение его инициативы и возможность сохранения ее спасительной ценности?
Я хочу уточнить здесь, если в этом есть необходимость, что эти вопросы не направлены против работы нашего друга Даниэля Лагаша: осторожность в методе, скрупулезность в процессе, непредубежденность в выводах — все здесь является примером дистанции, поддерживаемой между нашей практикой и психологией. Я буду опираться на случай Доры, поскольку в пока еще новом опыте переноса он оказывается первым, где Фрейд признает, что аналитик играет в нем свою роль[2].
Поразительно, что до сих пор никто не указал на то, что случай Доры представлен Фрейдом в виде серии диалектических поворотов. Речь не о спекулятивном приеме упорядочивания материала, появление которого Фрейд решительно оставляет на усмотрение пациента. Речь идет о скандировании структур, в которых истина проходит ряд преобразований для субъекта, и эти структуры касаются не только его понимания вещей, но даже и его позиции в качестве субъекта, функцией которой являются его «объекты». Иными словами, принцип изложения идентичен продвижению субъекта, то есть реальности лечения.
Между тем именно здесь Фрейд впервые вводит понятие препятствия, при столкновении с которым анализ разрушается, и называет его переносом. Это само по себе придает предпринятому нами исследованию диалектических отношений, составивших момент неудачи, по меньшей мере ценность возвращения к истокам, откуда в чисто диалектических терминах мы попытаемся определить так называемый негативный перенос субъекта как операцию аналитика, который его интерпретирует.
Однако нам придется пройти через все такты, которые привели к этому моменту, а также очертить его контур по тем ставящим вопросы предвосхищениям, которые в материале этого случая указывают нам, где он мог бы достигнуть своего полного завершения. Таким образом, мы обнаруживаем:
Первый такт разработки [un développement] в анализе, который показателен тем, что мы сразу же оказываемся в плоскости утверждения истины. Подвергнув Фрейда испытанию (окажется ли он таким же лицемерным, как ее отец?), Дора приступает к обвинительной речи, раскрывая досье воспоминаний, строгость которых контрастирует с биографической размытостью, характерной для невроза. Госпожа К и ее отец были любовниками на протяжении многих лет и скрывали это за выдумками, иногда совершенно нелепыми. Но апофеозом этого стало то, что Дора таким образом оказалась беззащитна перед ухаживаниями господина К, на что ее отец закрыл глаза, делая ее объектом одиозного обмена.
Фрейд был слишком хорошо знаком с общественным лицемерием, чтобы позволить себя одурачить, даже устами человека, которому, как он полагает, он должен полностью доверять. Поэтому ему не составило труда устранить из сознания своей пациентки любое обвинение в снисходительности по отношению к этому лицемерию. Но в конце этого такта разработки он сталкивается с вопросом, довольно классическим для лечения: «Все эти факты связаны с реальностью, а не лично со мной. Что вы хотите здесь изменить?» На что Фрейд отвечает —
Первым диалектическим поворотом, который ни в чем не уступает гегелевскому анализу притязаний «прекрасной души», восстающей против мира во имя закона сердца: «Посмотри, — говорит он ей, — каково твое собственное участие в том беспорядке, на который ты жалуешься»[3]. За этим следует —
Второй такт разработки истины: становится ясно, что все уловки, позволяющие отношениям двух влюбленных продолжаться, действовали не только благодаря молчанию, но и соучастию самой Доры, более того, под ее бдительной защитой.
Теперь мы видим не только причастность Доры к ухаживаниям, которыми ее преследует господин К, но и то, что ее отношения с другими партнерами по кадрили начинают играть новыми красками, будучи включенными в изощренную систему обмена драгоценными подарками и искупления бессилия в сексуальных удовольствиях, которая, зарождаясь в отношениях ее отца с госпожой К, возвращается к пациентке в форме ее доступности для господина К без ущерба для щедрости, поступающей к ней непосредственно из первоисточника в форме параллельных подарков, в которой буржуа традиционно находят тот тип почетной компенсации, наиболее подходящей для сочетания возмещения, причитающегося законной жене, с заботой о наследстве (следует отметить, что присутствие последнего участника здесь сводится к этим побочным присоединениям к цепочке обменов).
В то же время эдипальное отношение у Доры проявляется в идентификации с отцом, чему способствовало его сексуальное бессилие, переживаемое Дорой как идентичное преобладанию его имущественного положения [la prévalence de sa position de fortune]: об этом свидетельствует бессознательная аллюзия на семантику слова «Vermögen» в немецком языке[4]. Эта идентификация фактически проявляется во всех конверсионных симптомах, представленных Дорой, и ее раскрытие инициирует устранение многих из них.
Но возникает вопрос: что, исходя из этого, означает внезапная ревность Доры к любовной связи отца? Для того чтобы она стала играть столь преобладающую [prévalente] роль, необходимо объяснение, выходящее за рамки ее мотивов[5]. Именно в этом месте Фрейд совершает —
Второй диалектический поворот, указывая на то, что вовсе не предполагаемый объект ревности является ее истинным мотивом, а то, что он маскирует интерес к личности субъекта-соперницы, интерес, природа которого, гораздо менее совместимая с общественным дискурсом, может быть выражена только в этой инвертированной форме. Отсюда возникает —
Третий такт разработки истины: очарованность Доры госпожой К («восхитительная белизна ее тела»), откровения о состоянии ее отношений с мужем, которые она получала вплоть до того момента, который так и останется непроясненным, очевидный факт их обмена уловками, где каждая вещала о желаниях другой перед отцом Доры.
Фрейд уловил тот вопрос, к которому вел этот новый такт разработки.
Если вы чувствуете такую горечь от того, что именно эта женщина обрекла вас на лишения, то как вы можете не злиться на нее за это выходящее за все рамки предательство, ведь именно от нее исходят все эти обвинения в интригах и извращениях, благодаря которым все теперь выстраиваются в очередь, чтобы обвинить вас во лжи? Каков мотив этой преданности, заставляющий вас хранить последний секрет ваших отношений с ней (а именно сексуальную инициацию, что видно уже из обвинений самой госпожи К)? Через этот секрет мы действительно подойдем —
К третьему диалектическому повороту, тому, который сообщит нам реальную ценность объекта, которым госпожа К является… для Доры. Им является не личность, а тайна, тайна ее собственной женственности — имеется в виду ее телесная женственность — появившаяся без завесы во втором из двух сновидений, исследование которых составляет вторую часть изложения случая Доры, — сновидений, к которым нам следует обратиться, чтобы увидеть, насколько их толкование упрощается благодаря нашему комментарию.
Уже совсем близко тот межевой знак, вокруг которого мы должны развернуться, чтобы завершить последний диалектический поворот. Это наиболее далекий образ, который Дора смогла извлечь из раннего детства (даже учитывая, что исследование Фрейда было прервано, не все ли ключи уже были у него в руках?): будучи, вероятно, еще младенцем [infans], Дора сосет большой палец левой руки, а правой рукой дергает за ухо своего брата, который старше ее на полтора года[6].
Кажется, что перед нами воображаемая матрица, из которой проистекают все ситуации, возникающие в жизни Доры, — подлинная иллюстрация к еще не разработанной Фрейдом теории об автоматизмах повторения. С этого момента мы можем определить, что для нее значат женщина и мужчина.
Женщина — это объект, который невозможно отделить от первичного орального желания, и при этом она должна научиться признавать свою собственную генитальную природу. (Удивительно, что Фрейд здесь не видит, что обусловленность афонии во время отсутствия господина К[7], выражает неистовую силу орального эротического влечения в ситуации «один на один» с госпожой К без необходимости ссылаться на ощущение фелляции, навязанное через отца[8], хотя всем известно, что куннилингус — это тот прием, который чаще всего используют «господа имущие», силы которых начинают ослабевать). Для того чтобы добиться признания своей женственности, ей необходимо принять свое собственное тело, в противном случае она остается открытой для функциональной фрагментации (если обратиться к теоретическому вкладу стадии зеркала), которая и определяет конверсионные симптомы.
Однако, чтобы реализовать условие этого доступа у нее есть один единственный посредник, который, как показывает нам первоначальное imago, открывает ей доступ к объекту, а именно мужской партнер, разница в возрасте с которым позволяет ей идентифицироваться в том изначальном отчуждении, где субъект признает себя в качестве я [je]…
Таким образом, Дора идентифицировалась с господином К точно так же, как в процессе анализа она идентифицировалась и с самим Фрейдом (тот факт, что именно в момент пробуждения от «сновидения переноса» она почувствовала запах дыма, который мог принадлежать двум мужчинам, вовсе не говорит о том, как утверждает Фрейд[9], что это была какая-то более глубокая вытесненная идентификация, а скорее о том, что эта галлюцинация соответствовала сумрачной стадии возвращения к Я [moi]). И во всех ее связях с этими двумя мужчинами проявляется та агрессивность, в которой мы видим неотъемлемое измерение нарциссического отчуждения.
Таким образом, сохраняет истинность мнение Фрейда, что возврат к страстной претензии к отцу представляет собой регрессию, связанную с отношениями, намеченными через господина К.
Но эта дань уважения, в которой Фрейд усматривает спасительную возможность для Доры, может быть воспринята ею как проявление желания только после того, как она сможет принять себя как объект желания, а это случится не раньше, чем она постигнет смысл того, что она ищет в госпоже К.
Для каждой женщины — и по причинам, лежащим в основе самых элементарных социальных обменов (тех самых, которые Дора формулирует в претензиях и жалобах своего протеста) — проблема ее положения в основном заключается в том, чтобы принять себя как объект желания мужчины, и для Доры это составляет тайну, которая мотивирует ее боготворить [l’idolâtrie] госпожу К. Так же, как в ее долгих созерцаниях Мадонны и в обращении к далекому обожателю, это подталкивает ее к решению, которое христианство дало этому субъективному тупику, сделав женщину объектом божественного желания или трансцендентным объектом желания, что является равноценным.
Если бы Фрейд на третьем диалектическом повороте направил Дору к признанию того, кем была для нее госпожа К, добившись вместе с тем и раскрытия остальных секретов ее отношений с ней, то какой бы авторитет получил бы он сам (мы только начинаем здесь рассматривать вопрос о значении позитивного переноса), открыв тем самым путь к признанию мужского объекта. Это не мое мнение, это мнение Фрейда[10].
Но то, что его неудача оказалась фатальной для лечения, он объясняет действием переноса[11], ошибкой, заставившей его отложить интерпретацию[12], когда, как он смог убедиться задним числом, у него оставалось всего два часа, чтобы избежать его последствий[13].
Но каждый раз, когда он вновь взывает к такому объяснению этого такта разработки, примечание[14] внизу страницы дублирует его, обращаясь к недостаточной со стороны Фрейда оценке гомосексуальных отношений между Дорой и госпожой К. Что еще нужно сказать, если не то, что вторая причина по праву стала для него первой только в 1923 году, тогда как первая была плодотворной для его размышлений, начиная с 1905 года, с момента даты публикации случая Доры.
Какую из них мы должны принять? Безусловно, стоит поверить обеим и попытаться понять, что можно вывести из их синтеза.
На этом пути мы обнаруживаем следующее. Фрейд признает, что сталкиваясь с этой гомосексуальной тенденцией, он долгое время впадал в растерянность[15], которая делала его неспособным адекватно действовать в этой ситуации, хотя он и говорит, что она настолько постоянна у истериков, что ее субъективную роль для них невозможно переоценить.
Это относится, можно сказать, к предрассудку, тому самому, который изначально искажает концепцию Эдипова комплекса, заставляя считать преобладание отцовской фигуры естественным, а не нормативным. Тот самый предрассудок, который выражается просто в известном рефрене: «Девочка для мальчика — что ниточка для иголочки»[16].
Фрейд питает симпатию к господину К, которая уходит корнями в далекое прошлое, поскольку именно он привел к нему отца Доры[17], эта симпатия выражается в подчеркивании его многочисленных достоинств[18]. И даже после провала лечения Фрейд продолжает упорно мечтать о «победе любви»[19].
Что касается Доры, то его личная вовлеченность в тот интерес, который она в нем возбуждала, проскальзывает во многих местах этого анализа. По правде говоря, она заставляет его дрожать от волнения, которое сквозь все теоретические отступления, возвышает этот текст среди психопатологических монографий, определяющих жанр нашей литературы, до тональности принцессы Клевской с адским кляпом во рту.
Именно потому, что он слишком безоглядно поставил себя на место господина К, Фрейду не удалось на этот раз всколыхнуть Ахерон[20].
В силу своего контрпереноса Фрейд слишком настойчиво возвращается к любви, которую господин К мог бы внушать Доре, и примечательно, что он всегда интерпретирует в логике признания самые разнообразные ответы, которые Дора противопоставляет ему. Сеанс, в ходе которого он считает, что заставил ее «больше ему не противоречить»[21], и в конце которого, как ему кажется, он может выразить свое удовлетворение, Дора завершает совсем в другом тоне. «Ничего особенного не вышло», — говорит она и уже в начале следующего сеанса прощается с ним.
Так что же произошло в сцене признания на озере, оказавшейся той катастрофой, которая породила болезнь Доры, заставив всех остальных признать ее больной — то, что иронически отвечает на ее отказ продолжать исполнять свою функцию поддержки их общего недостатка (не получает ли все «выгоды» невроза сам невротик)?
Как в любой обоснованной интерпретации, достаточно придерживаться текста, чтобы его понять. Господин К успел сказать всего несколько слов, и, действительно, они были решающими: «Моя жена для меня ничего не значит». И его подвиг тут же получил свою награду: сильная пощечина, та самая, отголосок которой еще долгое время после лечения Дора будет ощущать на щеке в форме преходящей невралгии, та, которая значила для этого бедолаги: «Если она для вас ничего не значит, тогда кто же вы для меня?».
И чем с этого момента станет для нее эта марионетка, только что разрушившая чары, в которых она жила долгие годы?
Скрытый фантазм беременности, который последует за этой сценой, не противоречит нашей интерпретации: хорошо известно, что он возникает у истеричек даже в порядке их маскулинной идентификации.
В той же самой ловушке, куда неосознанно проваливается Фрейд, он и исчезнет навсегда. Дора удаляется с улыбкой Джоконды, а когда она появится вновь, Фрейду уже не хватит доверчивости, чтобы поверить, что она намерена вернуться.
В этот момент она заставила всех признать истину, которая, как она знала, какой бы достоверной она ни была, не стала последней истиной, и ей удастся одной только маной своего присутствия низвергнуть несчастного господина К под колеса экипажа. Облегчение ее симптомов, полученное во втором такте лечения, тем не менее сохранялось. Таким образом, остановка диалектического процесса приводит к явному отступлению, но восстановленные позиции могут быть удержаны только за счет утверждения Я [moi], что можно рассматривать как продвижение.
Что же такое этот перенос, о котором Фрейд говорит, что его работа невидимо следует за ходом лечения, а эффекты, более того, «ускользают от демонстрации»[22]? Не можем ли мы рассматривать его здесь как образование, полностью соотносимое с контрпереносом, определяемым как совокупность предрассудков, страстей, смятений и даже недостаточной осведомленности аналитика в конкретный момент диалектического процесса. Разве сам Фрейд не говорит нам, что Дора могла бы перенести на него фигуру отца, если бы он был достаточно глуп, чтобы поверить в версию событий, представленную ему ее отцом[23]?
Иными словами, перенос не является чем-то реальным в субъекте, кроме появления — в момент застоя аналитической диалектики — постоянных модусов, в соответствии с которыми субъект конституирует свои объекты.
Что же тогда значит интерпретировать перенос? Это не что иное, как заполнять пустоту этой мертвой точки — искусственной приманкой. Но эта приманка полезна, поскольку, даже если она обманчива, она вновь запускает процесс.
Отрицание [la dénégation], которым Дора могла бы встретить замечание Фрейда о том, что она приписывает ему те же намерения, которые проявлял господин К, ничего не изменило бы в масштабах его воздействия. Но само противостояние, которое оно могло бы вызвать, вероятно, направило бы Дору, несмотря на Фрейда, в благоприятном направлении: в направлении, которое привело бы ее к объекту ее реального интереса.
И тот факт, что он лично поставил себя на кон в качестве замены господина К, мог бы спасти Фрейда от того, чтобы чрезмерно настаивать на ценности предложения руки и сердца последнего.
Таким образом, перенос не проистекает из какого-либо таинственного свойства «аффективности», и даже когда он проявляется в форме эмоций, эти эмоции приобретают свое значение только в зависимости от диалектического момента, в котором они возникают.
Но этот момент не имеет большого значения, так как обычно он отражает ошибку аналитика, даже если он слишком сильно желает пациенту добра, опасность чего неоднократно разоблачал и сам Фрейд.
Таким образом, аналитическая нейтральность обретает свой подлинный смысл в позиции чистого диалектика, который, зная, что все реальное — рационально (и наоборот), знает, что все существующее, и даже зло, против которого он борется, — есть и всегда будет оставаться эквивалентным степени своей исключительности, и что для субъекта не существует иного прогресса, кроме интеграции его позиции в универсальное: технически это происходит путем проекции его прошлого в дискурс, находящийся в процессе становления.
Случай Доры представляется особенно подходящим для нашей демонстрации: поскольку речь идет об истеричке, экран Я [moi] достаточно прозрачен, так что, как говорил Фрейд, нигде не оказывается настолько низким порог между бессознательным и сознанием или, лучше сказать, между аналитическим дискурсом и словом симптома.
Мы полагаем, однако, что перенос по-прежнему имеет то же значение: он указывает на моменты заблуждения, а также на ориентацию аналитика. Он так же имеет ценность призывать нас к особому порядку нашей роли: позитивное бездействие с целью ортодраматизации субъективности пациента.
Сноски и примечания:
[1] Истерия и страх / Зигмунд Фрейд; пер. А. М. Боковикова. — Москва: Фирма СТД, 2006. — с. 95.
[2] Чтобы можно было убедиться в текстуальном характере моего комментария, при каждом упоминании текста Фрейда дается ссылка на перевод, опубликованный в Denoël и на переиздание, опубликованное P.U.F. в 1954 году (1966). — Примеч. автора.
В данном переводе эти ссылки расставлены по изданию Истерия и страх / Зигмунд Фрейд; пер. А. М. Боковикова. — Москва: Фирма СТД, 2006. — 319 с. — Примеч. переводчиков.
[3] Истерия и страх / Зигмунд Фрейд; пер. А. М. Боковикова. — Москва: Фирма СТД, 2006. с. 110-112.
[4] В немецком языке слово «Vermögen» означает имущество, состояние, способность, состоятельность, тем самым в нем могут звучать отсылки и к имущественному достоянию, и к силе мужского достоинства. — Примеч. переводчиков.
[5] Там же, с. 128.
[6] Там же, с. 99 и с. 125-126.
[7] Там же, с. 115.
[8] Там же, с. 122.
[9] Там же, с. 144.
[10] Там же, с. 184.
[11] Там же, с. 180-184.
[12] Там же, с. 182-183.
[13] Там же, с. 183.
[14] Там же, с. 184.
[15] Там же, с. 184.
[16] На французском эта поговорка, «Comme le fil est pour l’aiguille, la fille est pour le garçon», имеет схожий смысл с русской поговоркой: «Что к чему: щи — к пирогу, хлеб — к молоку, а девушка — к парню». Здесь присутствует схожее звучание le fil (нитка) и la fille (девочка), а также грамматическое различие мужского и женского, где в первой части le fil (м) — l’aiguille (ж) и во второй la fille (ж) — le garçon (м). — Примеч. переводчиков.
[17] Там же, с. 97-98.
[18] Там же, с. 106 (примечание 3).
[19] Там же, с. 175.
[20] Из афоризма, который Фрейд делает эпиграфом к «Толкованию сновидений». — Примеч. переводчиков.
[21] Там же с. 169-171
[22] Там же, с. 144.
[23] Там же, с. 182.
__________________________
Перевод: Марк Савичев, Евгения Савичева
Переводческий проект Freudeutung (VK) (Telegram)
Текст перевода представлен в ознакомительных целях и не извлекает никакой коммерческой выгоды.
