Ответы на проклятые вопросы: из книги Михаила Эпштейна «Ирония идеала. Парадоксы русской литературы»
1. Литература и метафизика
«…Вкус к метафизике отличает произведение искусства от простой беллетристики», — писал Иосиф Бродский в последнем сборнике своих эссе «О скорби и разуме». «Метафизика» здесь подразумевает постижение мира как целого, постановку основополагающих проблем бытия и самостоятельный поиск их решений.
Как известно, слово «метафизика» поначалу прилагалось к тем работам Аристотеля, которые шли «после физики» и исследовали не чувственно воспринимаемые явления, а «сущее как таковое, а также то, что ему присуще само по себе». В отличие от частных наук, метафизика поднимает те вечные вопросы, на которые научное знание не может дать ответа. Почему существует мир? Есть ли Бог? Откуда взялось зло и зачем нужно делать добро? Для чего рождается человек, в чем смысл его жизни и почему он обречен смерти? Свободна ли наша воля или она есть проявление неизвестной нам высшей необходимости — предопределения?
Вспомним, что когда лермонтовский «фаталист» Печорин интересуется мнением Максима Максимовича о предопределении, тот уклоняется от ответа, поскольку «вообще не любит метафизических прений». Действительно, в метафизике много неясного и нерешенного, но тем более насущного для души. В истории мысли было много попыток упразднить метафизику как дисциплину, лишенную научных оснований и заранее обреченную на незнание или полузнание. Но вопреки всем поминкам по метафизике, из- вестия о ее смерти всегда оказывались преждевременными. Если у нас и нет окончательных ответов на метафизические вопросы, то неистребима сама потребность их задавать, заходить за предел чувственного бытия и вопрошать о первых началах и последних смыслах. Иммануил Кант, положивший начало радикальной критике метафизики, тем не менее признавал ее нераздельной с главными устремлениями человеческого духа: «…Чтобы дух человека когда- нибудь отказался от метафизических исследований — это так же невероятно, как и то, чтобы мы когда-нибудь совсем перестали дышать из опасения вдыхать нечистый воздух. Всегда, у каждого человека, в особенности у мыслящего, будет метафизика…».
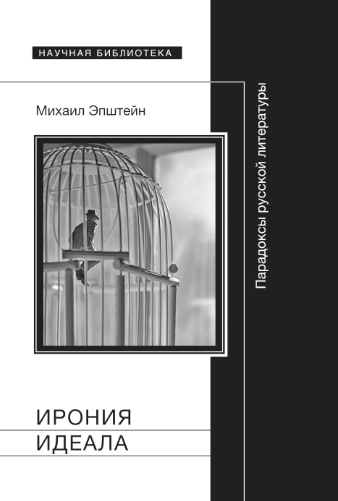
Есть своя метафизика и у литературы. Больше того, именно метафизичность, сложность и широта мышления, обращение к предельным и запредельным условиям человеческого бытия отличают литературу от развлекательной, коммерческой, бытописательной, сиюминутно-газетной словесности. Бог и человек, дух и плоть, святость и грех, жизнь и смерть, свобода и закон, судьба и случай — эти понятия метафизики пронизывают литературу часто даже помимо намерений самих авторов.
Это не значит, что литература — филиал философии и просто передает идеи в форме образов. Метафизика часто рассматривается как один из разделов философии, исследующий законы и универсалии мироздания, природу и структуру высшей реальности. Но метафизика не является исключительно привилегией философии. У религии и политики, у языка и у музыки есть своя метафизика, свое видение первоначал бытия, его высот и глубин. Таким образом, область «метафизики» и шире, и уже философии. С одной стороны, метафизика — только один из разделов философии, наряду с эпистемологией, онтологией, логикой, этикой, эстетикой и т.д. С другой стороны, философия — лишь одна из областей метафизики, которая может выражаться в литературе, театре, живописи и т.д. Вот пример метафизического вопрошания в одной пушкинской строфе:
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Такова одна из главных метафизических тем: человек не своей волей появляется на свет, но, приняв этот дар и и пытаясь разгадать его смысл, он вместе с тем поражен и загадкой того, почему этот непрошеный дар так скоро и тоже без спроса у него отнимается.
Метафизика — область вопросов, именуемых не только вечными, но и проклятыми, потому что они неразрешимы для ума и мучительны для сердца.
Разумеется, в литературных произведениях не так уж много прямых метафизических высказываний, — кстати, для самого Пушкина они гораздо менее характерны, чем, например, для таких философских лириков, как Ф. Тютчев или Н. Заболоцкий. Обычно метафизика литературного произведения выражается не в философских рассуждениях, а в соотношении его образов, в особенностях стиля, выборе слов и деталей, в его перекличке с произведениями других авторов, иногда удаленных на века или десятилетия. Здесь имеешь дело не с прямо выраженной мыслью автора, но с мыслью самого произведения или даже с мыслью целой литературы, которая самому писателю может быть чужда или неизвестна. Исследователю приходится работать со множеством косвенных свидетельств, внутритекстуальных и межтекстуальных связей, которыми через писателя мыслит сам язык и сама литература. Но тем самым метафизика, явленная в литературе, очищается от той субъективности и предвзятости, которая ей часто присуща в целенаправленных построениях профессиональных философов, работающих с общими понятиями и категориями.
Александр Блок говорил, что коротких мыслей, бегущих от предмета к предмету, для большого писателя недостаточно — должна быть «долгая мысль», пронизывающая все произведения. У большой литературы тоже должна быть своя долгая мысль. Метафизика русской литературы — это и есть ее долгая мысль, которая воплощается во всей системе ее образов, переходя по наследству от писателя к писателю, от поколения к поколению.
Выражение «метафизика русской литературы» имеет двоякий смысл: литература как выразитель определенного метафизического умозрения — и как предмет метафизического исследования. Оба эти смысла совмещаются в книге. Именно метафизичность самой русской литературы делает ее достойным и необходимым предметом метафизического изучения.
Ровно сто лет назад, в 1906 году, критик А.С. Волжский писал: «Русская художественная литература — вот истинная русская философия, самобытная, блестящая философия в красках слова, сияющая радугой мыслей… Почти всегда в глубине ее шла неустанная работа над самыми важными, неумирающими и значительными проблемами человеческого духа; с проклятыми вопросами она почти не расставалась». Эта характеристика остается верной и по прошествии века, который осложнил философские искания русской литературы тем, что попытался политически, «революционно» разрубить узлы многих метафизических вопросов — а в результате только туже их затянул. Смысл страдания и право на бунт, свобода без равенства и равенство без свободы… Русская словесность ХХ века понесла на себе двойное бремя этих проклятых вопросов, утяжеленное сознанием их безысходности, трагедией неудавшегося исторического эксперимента, зачинщицей и первой жертвой которого стала Россия.
Метафизика русских писателей XIX века: Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Достоевского, Тютчева и Л. Толстого — исследована в первую очередь русскими мыслителями Серебряного века: Розановым и Мережковским, Шестовым и Бердяевым. Для русской литературы ХХ столетия период метафизического осмысления и подведения итогов — свой Серебряный век — должен наступить сейчас. А. Платонов и М. Булгаков, Б. Пастернак и О. Мандельштам, М. Цветаева и Н. Заболоцкий, М. Пришвин и Д. Андреев, А. инявский и И. Бродский, А. Битов и А. Кушнер, а в наше время В. Сорокин и В. Пелевин, О. Седакова и Д. Пригов, В. Шаров и М. Шишкин — все это, несомненно, писатели со своей явной или тайной метафизической темой, со своим откликом на загадки русской души и парадоксы русской истории.
2. Метанарративы
Можно представить метафизику русской литературы как некий связный и последовательный метанарратив (сверхповествование), который пронизывает собой творчество всех писателей и ведет их к некоей высшей цели. Понятие метанарратива ввел французский мыслитель Жан-Франсуа Лиотар в книге «Состояние постмодерна: доклад о знании» (1979). Метанарратив — это не художественное повествование, а целостная и всеобъемлющая система мировоззрения, которая объясняет все факты истории, все явления бытия, выстраивая их в стройной, линейной последовательности, как некий развивающийся сюжет, ведущий к закономерному финалу, воплощению сверхцели или сверхидеи. Метанарратив знает, как ведет себя та или иная сверхсущность: Абсолютная Идея или Разум, Пролетариат или Евразия, — объясняет ее прошлое и предсказывает будущее. К таким метанарративам, господствующим на Западе, Лиотар относит христианство, Просвещение (рационализм), марксизм. По Лиотару, новая эпоха постмодерна, наступившая на Западе в 1970-е годы, подрывает доверие к любым метанарративам и признает множественность дискурсов, «паралогий», взаимно непереводимых и даже несовместимых друг с другом. Но в России метанарратив в единственном числе — марксистский — господствовал так долго, что после его вытеснения «свято место пусто не осталось», на его место стало притязать несколько других, соперничающих между собой. Сама тотальная структура сознания, вбирая разные содержания, при этом остается почти неизменной.
Поскольку на протяжении двух с половиной веков литература считалась основой русской культуры и национального самосознания, любой метанарратив старается на нее опереться, продемонстрировать свою объяснительную и предсказательную мощь. Такой способ построения русской литературы хорошо знаком нам по учебникам советских времен, когда господствовал марксистский метанарратив исторического прогресса, закономерно ведущий от социального неравенства через освободительные и революционные движения к высшей цели построения коммунистического общества. Писатели прошлого посильно участвовали в этом сюжете: кто воспевал свободу, кто с состраданием относился к участи трудового народа, кто требовал от поэзии гражданской доблести, а кто и прямо указывал «путь к будущему» в образах революционеров, рабочих, коммунистов. Эта метафизика «трех этапов освободительного движения» отошла уже в прошлое, но ее легко заменяют другие провиденциальные схемы, подчиняющие все движение русской литературы некоей сверхидее.

Одна из них, как нетрудно догадаться, превращает русскую литературу в прикладное евангельское чтение, в материал для уроков Закона Божия. От Жуковского через Пушкина к Гоголю, а далее, в обход эстетов и наперекор нигилистам, — к Достоевскому и Толстому, к чеховским «Студенту» и «Архиерею», русская литература есть искание Христа, искание Бога в человеке и человека в Боге. И если на этом пути ее поджидают дьявольские соблазны и падения, каковыми стали революция и ее расхристанные пророки Блок, Горький и Маяковский, то русская литература, оступившись,
Еще один способ выстроить метафизический дискурс о русской литературе предложен визионером и
В постсоветское время на роль сверхистолкований особенно упорно претендуют «евразийский» и «космистский» дискурсы, и каждый из них, конечно, предлагает свою последовательную интерпретацию русской литературы. С евразийской точки зрения, новая русская литература, хотя и возникла в XVIII веке под воздействием Запада, все время искала независимости от него. Центральная тема этой интерпретации — борьба славянофильства и западничества, причем обе партии оказались неправы, пусть в разной мере. Славянофильство тоже сдвигало Россию в Европу, хотя и восточную, тогда как Россия, сердце всего евразийского континента, объемлет собой и Дальний Восток, и Среднюю Азию. Воплощением евразийского сознания выступает в таком дискурсе патриотическая, великодержавная, имперская линия русской литературы: от Ломоносова, Державина и Пушкина — через восточные интересы и прозрения В. Хлебникова, А. Платонова — до мистиков, государственников и почвенников конца XX века: В. Распутина, Ю. Мамлеева, А. Проханова, поэта Ю. Кузнецова. К ним иногда подключают и мифологически ориентированных пусателей советского Востока: Ч. Айтматова, А. Кима, Т. Пулатова, Т. Зульфикарова и др.
Наконец, космистский дискурс строит свою метафизику русской литературы на основе идей философа Николая Федорова об «общем деле» воскрешения предков, преодолении смерти, разумной организации и покорении космоса. Другие вдохновители космизма — основоположник космонавтики мистик-утопист К.Э. Циолковский и В.И. Вернадский с его учением о биосфере и ноосфере. Космистский дискурс, как и марксистский, оптимистичен в отношении исторического прогресса, но источник его усматривает не в борьбе классов и росте производительных сил, а в борьбе человеческой мысли с неодушевленной материей. Космизм ищет путей активной, целенаправленной эволюции вселенной, которая управляется технически вооруженным разумом. В проекции на русскую литературу это означает преимущественный интерес к писателям натурофилософского, утопического, а также активно-эволюционного, ноосферного склада, таким как Ф. Тютчев, В. Хлебников, М. Горький, С. Есенин, М. Пришвин, Н. Заболоцкий, А. Платонов, писатели-деревенщики. Разумеется, все писатели, творчески озабоченные мыслью о смерти и бессмертии, включая Пушкина, Достоевского, Л. Толстого, тоже встраиваются в этот воскресительный сюжет.
Итак, возможны разные подходы к русской литературе, исходя из той метафизической идеи, которая кладется в основу метанарратива. Каждый метанарратив находит в русской литературе своих героев и антигероев, своих великих писателей и «совратителей» или «реакционеров», свои шедевры и провалы. В каждом из вышеуказанных подходов, условно говоря, марксистском, христианском, мистико-универсалистском (андреевском), евразийском, эволюционно-космистском (федоровском) — есть своя правда, малая или большая. Все эти подходы могут пересекаться и дополнять друг друга, например андреевский дискурс «Розы мира» может быть встроен в федоровский дискурс «Общего дела», а евразийский дискурс пытается на новом этапе присвоить себе социально-этатистские устремления советского марксизма. Порою коммунизм даже пытаются выдать за интернациональную религию нашего времени и повенчать с мистическим универсализмом, как в свое время предпринимались попытки соединить христианство с социализмом.
Мы не обсуждаем сейчас сравнительные достоинства и недостатки этих подходов и всех их возможных сочетаний. Поставим вопрос: а можно ли вообще обойтись без метанарратива, оставаясь вместе с тем на уровне тех метафизических вопрошаний, которые обращает к нам русская литература?
3. Метафизика без метанарратива
Возможна ли метафизика без метанарратива? Именно такой подход предлагается в этой книге. Она состоит из шести разделов, каждый из которых охватывает свой узел метафизических проблем и, соответственно, разрабатывает свою систему понятий для их осмысления. Метафизическая ткань русской литературы сплетена именно из таких узлов, но если все их распустить в одну нить, вобрать в один метанарратив, исчезнет богатый, многосложный узор. Иными словами, вместо линейного подхода мы предлагаем узловой: не выпрямление русского метафизического языка по линейке сверхидеи, а следование его кривым, то плавным, то крутым и изломанным.
При таком нелинейном подходе возникает много неожиданных вопросов, например: что общего между Акакием Башмачкиным и князем Мышкиным? между гоголевской панночкой и Россией? как гончаровский «Обломов» отзывается в платоновском «Чевенгуре»? и шире — как растет и подхватывается эхо всемирной литературы в перекличке Пушкина с Гете и Мицкевичем, Батюшкова с Гельдерлином, Горького с Фрейдом, Платонова с Хайдеггером и Набоковым? Нас интересуют не столько прямые влияния и заимствования между произведениями, сколько их типологические параллели и пересечения, их диалог в большом времени и пространстве мировой культуры.
Особенность книги — внимание к мыслительной «изнанке» литературы, к той непрямой и «нечаянной» постановке вечных вопросов, которая отличает ее от философии. Таких вопросов, которые не ставятся напрямую самим писателем («что делать?», «кто виноват?»), а вытекают из его стиля, из соотношения разных произведений, из переклички далеких образов, — сближений, которые самим писателям могли бы показаться неожиданными, в
Так, мы рассматриваем патриотическую тему в знаменитых лирических отступлениях «Мертвых душ» как развитие гоголевской демонологии («Вий», «Портрет»). Там, где возносится грандиозный и загадочный образ гордо-державной России, обнаруживается мотив нечистой силы, знакомый нам по ранним сочинениям Гоголя. Мы прослеживаем преемственную связь «маленького человека» Акакия Башмачкина с самым величественным и прекрасным героем русской литературы, «князем Христом» — Мышкиным в «Идиоте» Достоевского. И одновременно — с одним из самых страшных персонажей, чеховским «человеком в футляре», в котором узнаются черты «людобоязни», столь характерной впоследствии для тоталитарных вождей ХХ века, социалистов и социофобов в одном лице. Мы пытаемся понять поэзию Б. Пастернака и О. Мандельштама в контексте унаследованных ими, но вряд ли полностью осознанных еврейских духовных традиций. Еще один пример: в русской литературе есть традиция возводить слово на ступень «логоса», божественного глагола, а сам писатель выступает как пророк и учитель жизни. Однако, пренебрегая «человеческой», информативной функцией и пытаясь взять на себя сразу «божественную» миссию, слово превращается в магическое или идеологическое заклинание и в конце концов — в чистую фикцию. Эта подмена прослеживается у Н. Гоголя, А. Чехова, Д. Хармса, В. Сорокина, которые демонстрируют всевластие и одновременно ничтожество слова, превращенного в инерцию говорения.
Все эти парадоксы рассматриваются не для того, чтобы «уличить» писателей в непонимании самих себя, но чтобы представить взаимосвязь метафизических образов и художественных идей, действующих на всем пространстве русской литературы. Вместо того чтобы выставлять эту взаимосвязь в виде последовательного идейного сюжета, метанарратива, мы сосредотачиваемся на метафизических смыслах в той степени, в какой они подрывают любую идеологическую трактовку произведения, основанную на прямых высказываниях писателя или буквальном понимании его образов как наглядно выраженных идей. Нас интересует именно то, что не умещается в «замысел» произведения, размывает его логическое и монологическое единство, придает иной, подчас противоположный смысл образам, т. е. область художественной метафизики, в отличие от метафизики доктринальной и спекулятивной, как она выражается в систематических философских сочинениях.
Два слова суть ключевые для нашего подхода: метафизика русской литературы. Метафизика, а не история, не теория, не эстетика, не психология литературы. Но и метафизика литературы, а не философии, или религии, или политики, или общественной идеологии. Художественность метафизики определяется именно игрой образов и богатством их иносказательных или «несказательных» смыслов, возникающих на границах или по ту сторону прямых высказываний. Это своего рода «апофатическая», отрицательная метафизика русской литературы, в том смысле, в каком понятие апофатики представлено на страницах этой книги, — как способ познания непостижимого, описания невыразимого [1]. Метафизика литературы — не то, что в ней напрямую высказано, но то, что умалчивается, хранится на самом дне. Как писал Т. Карлейль, «в символе есть сокрытость и вместе с тем откровение: значит, молчание и речь, действуя совместно, дают двойную значимость». Отсюда и метафизичность настоящей литературы — той, которая не только говорит, но и молчит, точнее молчит словами и говорит молчанием, т.е. выражает себя с двойной силой, как «молчесловие».

Писатель, по сути, никогда от себя ничего не говорит — говорят его персонажи, повестователи — подставные лица, маски. По Бахтину, «создающий образ (т.е. первичный автор) никогда не может войти ни в какой созданный им образ… От лица писателя ничего нельзя сказать… Поэтому первичный автор облекается в молчание». Создатель не входит полностью в созданное им бытие, — оттого у художественного мира (как и у всего мироздания) есть тайны, «что-то там», «за пределом». Художественная словесность — область означенного молчания. В отличие от обыденного слова, которому соответствуют определенные вещи или поступки («принеси стакан», «купи хлеба», «я пойду в кино»), художественное слово лишено прямых означаемых. В этом, кстати, отличие просто пишущего от писателя, мастера письма. Писатель создает подтекст или затекст — область молчания за слоем текста. Вот свидетельство писателя Андрея Битова: «Мне всегда казалось, что литература работает не со словом, а с молчанием, с немотою. Невыраженное, невыразимое — что есть верный признак его, как не отсутствие слов? Подлинный писатель никогда не умеет писать». Если это так, то за писателя, точнее вместе с ним, пишет истолкователь. Его задача — услышать молчание в глубине слова и иначе, по-своему передать его смысл.
Эту книгу можно было бы так и назвать: «О чем молчит русская литература?». Речь идет не о секретах, которые она утаивает (например, казусы и скандалы в жизни писателя), но о тайнах, которыми она делится с нами, чтобы мы могли говорить ей в ответ.при этом у каждой национальной литературы есть своя область тайн и умолчаний. По мысли Х. Ортега-и-Гассета, «каждый язык — это особое уравнение между тем, что сообщается, и тем, что умалчивается. Каждый народ умалчивает одно, чтобы суметь сказать другое. Ибо все сказать невозможно. Вот почему переводить так сложно: речь идет о том, чтобы на определенном языке сказать то, что этот язык склонен умалчивать». К этому нужно добавить, что трудно переводить не только с одного языка на другой, но и тексты в пределах одного языка: художественные — на язык философский, теоретический.
Общая черта всех критических интерпретаций, построенных на метанарративах, — неспособность слышать именно молчание литературы. От нее не остается тайны, ничего своеобразного и просто образного, способного удивлять, оказывать сопротивление заведомо известной схеме мысли. Между тем, как полагал сам основоположник метафизики Аристотель, «удивление побуждает людей философствовать… недоумевающий и удивляющийся считает себя незнающим». В этом смысле метанарратив, который все объясняет и ничему не удивляется, противоположен метафизике, которая рождается именно наибольшим удивлением, недоумевает о том, что всем известно, зацепляется за то, мимо чего проходят привычка, здравый смысл и всезнайство: откуда мир? зачем жизнь? для чего человек?
Eсли говорить о
Книга Михаила Эпштейна «Ирония идеала. Парадоксы русской литературы» опубликована в издательстве «Новое литературное обозрение».