Размышления о критическом литературоведении: из книги Петера Бюргера «Теория авангарда»
Критическая наука отличается от традиционной тем, что анализирует общественное значение своей деятельности. Это порождает определенные проблемы, осознание которых важно для учреждения критического литературоведения. Я имею в виду не то наивное отождествление индивидуальной мотивации и общественной актуальности, которое встречается сегодня у антиавторитарных левых, но теоретическую проблему. Определение того, что актуально для общества, связано с политической позицией интерпретатора. Это значит, что вопрос, актуален предмет или нет, в антагонистическом обществе нельзя решить обсуждением, но его можно обсудить. Мне кажется, научная дискуссия добилась бы существенного прогресса, если бы для каждого ученого стало нормой обосновывать выбор своего предмета и постановку проблемы.
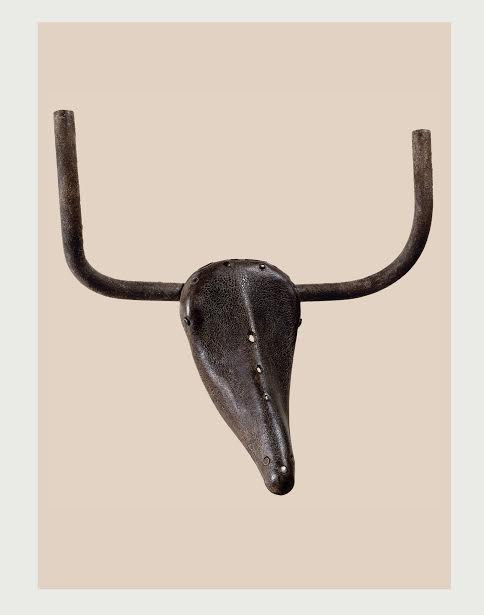
Критическая наука, какой бы опосредованной она ни была, понимает себя как часть социальной практики. Она не является «незаинтересованной», но руководствуется интересом. Последний можно примерно определить как заинтересованность в разумных состояниях и мире, свободном от угнетения и ненужного подавления. Этот интерес не может реализоваться в литературоведении непосредственно. Такого рода попытки (например, установление жесткого мерила, по которому прогрессивность литературы определяется изображением положительного героя из рабочего класса) игнорируют особенность и историчность предметной области. Нацеленный на познание интерес реализуется в литературоведении лишь опосредованно — через определение категорий, с помощью которых будут осмысляться литературные объективации.
Суть критической науки не в том, чтобы изобретать новые категории, противопоставляя их «ложным» категориям традиционной науки. Напротив, при анализе категорий традиционной науки она пытается выяснить, какие вопросы они могут ставить, а какие уже исключены на уровне теории (самим выбором категорий). В литературоведении при этом важен вопрос, обладают ли категории теми качествами, которые позволили бы анализировать взаимосвязь литературных объективаций и общественных отношений. Я настаиваю на важности категориальных рамок, которыми пользуется исследователь. Можно, например, описать литературное произведение как решение определенных художественных проблем, возникающих в зависимости от состояния художественной техники в эпоху его создания; но это отсекает вопрос о социальной функции уже на теоретическом уровне, если только не удастся показать наличие общественной составляющей в казалось бы чисто художественной проблематике.
Разумеется, критическое литературоведение выбирает своим исходным пунктом не случайно взятые традиционные концепции, но наиболее актуальные. К таковым, несомненно, относится герменевтика. В книге «Истина и метод» Гадамер разработал два ключевых герменевтических понятия: предрассудок и аппликация. Предрассудок применительно к процессу понимания чужих текстов означает, что интерпретатор не является пассивным реципиентом, словно растворяющимся в тексте, а привносит определенные представления, проникающие в толкование текста. Аппликация (применение) — это всякое толкование, проистекающее из определенного интереса к современности. Гадамер подчеркивает, «что в понимании всегда имеет место нечто вроде применения подлежащего пониманию текста к той современной ситуации, в которой находится интерпретатор». В целом с Гадамером можно согласиться, но содержание, которым он наполняет эти понятия, справедливо критиковалось, особенно Юргеном Хабермасом: «Гадамер превращает свою идею понимания как структуры предрассудка в реабилитацию предрассудка как такового». Это происходит потому, что Гадамер определяет понимание как «включение в свершение предания» (Истина и метод, с. 345). Для консервативного Гадамера понимание в конечном счете совпадает с подчинением авторитету традиции; Хабермас же, напротив, указывал на «силу рефлексии», которая делает структуру предрассудка прозрачной и тем самым разрушает его власть (Logik der Sozialwiss., S. 283 f.). Он поясняет, что для самостоятельной герменевтики традиция предстает абсолютной властью лишь потому, что она не учитывает системы труда и господства (Logik der Sozialwiss., S. 289). Именно в этом пункте, по его мнению, должна вступать игру критическая герменевтика.
«Относительно наук о духе, — пишет Гадамер, — скорее следует сказать, что исследовательский интерес, обращаясь к преданию, каждый раз совершенно особым образом мотивирован здесь современностью и ее интересом. Лишь благодаря подобной мотивации самой постановки вопроса конституируются тема и предмет исследования» (Истина и метод, с. 338). Указание на соотнесенность историко-герменевтических наук и современности несет в себе большую теоретическую значимость, но формулировка «современность и ее интерес» подразумевает, что современность есть нечто единообразное и ее интересы можно определить. Именно в этом кроется заблуждение. В истории интересы правящих и угнетенных едва ли когда совпадали. Лишь полагая современность как монолитное единство, Гадамеру удается приравнять понимание к «включению в свершение предания». В противовес этой точке зрения, делающей историка пассивным реципиентом, можно согласиться с Дильтеем, который настаивает на том, «что историю исследует тот же, кто ее творит». Хочет он того или нет, но историк или интерпретатор занимает определенную позицию в рамках общественных дискуссий своего времени. Перспектива, из которой он рассматривает свой предмет, определена его собственным положением среди социальных сил эпохи.
Герменевтика, ставящая своей целью не простую легитимацию традиции, а рациональное испытание претензии традиции на действенность, оборачивается критикой идеологии. Не секрет, что с понятием идеологии связано множество отчасти противоречащих друг другу значений; и все же критической науке без него не обойтись, поскольку оно позволяет мыслить противоречивые отношения духовных объективаций и социальной реальности. Вместо того чтобы пытаться дать определение, обратимся к критике религии, которую Маркс развил во введении к «Критике гегелевской философии права» и которая демонстрирует это противоречивое отношение. Ранний Маркс — в этом заключается как сложность, так и научная плодотворность его понятия идеологии — разоблачает как ложное сознание такой образ мыслей, истинность которого он вместе с тем не отрицает. Эта двойственность идеологии обнаруживается на примере религии:
1. Религия есть иллюзия. Человек проецирует в небо то, что он хочет видеть воплощенным на земле. Веря в Бога, который является лишь овеществлением человеческих свойств, он вводит себя в заблуждение.
2. Вместе с тем религии присущ и момент истины: она есть «выражение действительного убожества» (поскольку чисто идеальная реализация человечности на небесах указывает на нехватку реальной человечности в человеческом обществе).
И она есть «протест против этого действительного убожества», потому что и в отчужденной форме религиозные идеалы являются мерилом того, что должно быть в действительности.
Критику религии у Маркса можно обобщить в модель, применимую к предметам литературы. Маркс устанавливает связь между идейным содержанием (религиозным учением) и общественным положением носителей этого идейного содержания (социальное убожество). Сложнее всего при этом изложить суть установленной связи — мы назовем ее социальной функцией идейного содержания. В модели она понимается как противоречивая: она содержит момент истины (выражение убожества и протест против него) и момент не-истины (пробуждение иллюзорных надежд). Значение модели заключается в том, что она не устанавливает однозначного отношения духовных объективаций и социальной действительности сразу на теоретическом уровне, но рассматривает это отношение как противоречивое и тем самым предоставляет конкретному анализу необходимый простор для познания, так что он не превращается в пустую демонстрацию изначально заданной схемы. Важно, кроме того, следующее: критика понимается как производство знаний, а не как пассивное восприятие данного. Хотя элемент истины и присутствует в идейном содержании (религии) изначально, он раскрывается только посредством критики. Последняя разрушает иллюзию автономного существования Бога и позволяет тем самым познать элемент истины идейного содержания.
Из этого следует:
1. Критика идеологии, построенная по образцу критики религии у Маркса, не разрушает духовное образование прошлого — она лишь раскрывает его историческую истину.
2. Кроме того, следует помнить, что идейное содержание (литературное произведение) понимается не просто как слепок, то есть дублирование общественной реальности, но как ее продукт. Оно есть результат деятельности, отвечающей на действительность, которая воспринимается ущербной. (Человеку, которому недоступна «истинная действительность», то есть возможность гуманного развития в реальности, приходится идти на «фантастическое осуществление» самого себя в сфере религии.) Идеологии не просто отражают определенные общественные отношения, но и являются частью общественного целого. «Идеологические моменты „скрывают“ не только экономические интересы, являются не только знаменами и боевыми лозунгами, но выступают как часть и элемент самой действительной борьбы».
Чтобы быть пригодной для анализа литературы, описанная модель нуждается тем не менее в некоторых преобразованиях. Идейное содержание, позволяющее постигать духовные объективации лишь на содержательном уровне их высказывания, должно быть заменено определением, учитывающим, что содержание художественного произведения во многом складывается из его формы. Для этого я предлагаю понятие интенции произведения. Им следует обозначать не осознанное авторское намерение воздействовать на реципиента, а точку схождения обнаруживающихся в произведении средств этого воздействия (стимулов). Здесь возникает проблема включения формальных методов анализа текста в критическое литературоведение. Такое включение необходимо; однако оно требует теоретических размышлений, которые бы прояснили научный статус формальных методов и легитимность их включения в
Названные преимущества модели, выведенной из критики религии Маркса, можно обобщить следующим образом: эта модель позволяет сформулировать взаимосвязь отдельного произведения и социальной действительности, которой оно обязано своим появлением, как диалектическое отношение (функцию). Кроме того, она позволяет поставить вопрос об изменениях социальной функции произведения после заката обусловливающего его общества. Эта модель позволяет допустить, что в изменившейся общественной ситуации произведение получает новые социальные функции. Ведь если понимать функцию не просто как эманацию интенции произведения, но как результат интенции произведения, с одной стороны, и реального положения аудитории этого произведения, с другой, то антиномия историчности и вневременности становится частично объяснимой.
Недостаток модели (не Марксовой критики религии, но предложенного здесь ее применения к литературным произведениям) заключается в том, что она строится на иллюзии, будто отдельное произведение и воздействует отдельно. Но это не так — произведение воздействует в рамках института искусства. Этот недостаток был устранен в предпринятом Маркузе перенесении Марксовой критики религии на культуру буржуазного общества. Однако и здесь, как мы увидим, не обошлось без трудностей.
Изложим для начала в общих чертах центральное положение Маркузе из его статьи «Аффирмативный характер культуры». Подобно тому как Маркс раскрыл «аффирмативный» момент в религии (в качестве утешения она избавляет общество от давления сил, направленных на изменения), Маркузе обнаруживает его в буржуазной культуре, допускающей гуманные ценности лишь в качестве фикции и тем самым препятствующей их реализации. И подобно тому как Маркс улавливал в религии критический момент («протест против действительного убожества»), Маркузе считает гуманистические притязания великих произведений буржуазной культуры протестом против несправедливого общества. «И разумеется, она [аффирмативная культура] освобождает „внешние условия“ от ответственности за „призвание человека“, что позволяет стабилизировать их несправедливость. Однако она также указывала в качестве задачи на образ лучшего строя».
Перенос глобальной модели критики Маркса на сферу культурных объективаций еще не решает вопроса о научном статусе такой модели. Критика буржуазной культуры Маркузе опирается на ее идейный характер; она глобальна в той мере, в какой она одинаково затрагивает все объективации искусства буржуазии. Возникает вопрос, как эта модель относится к интерпретации отдельных произведений. Было бы, конечно, совершенно бессмысленно утверждать, что она охватывает все произведения буржуазной культуры или же наделяет их ярлыком «аффирмативности». Если из статьи Маркузе и можно сделать такие выводы, агрессивные по отношению к культуре и чуждые самому автору, то только в результате ошибочного анализа. Ведь значение этого анализа кроется скорее в том, что он предоставляет модель диалектического толкования, не дав прежде толкования отдельных произведений. Желая определить статус этой модели точнее, можно понимать ее через призму рассуждений Хабермаса о метапсихологии Фрейда как всеобщей интерпретации. Подобно тому как структурная модель метапсихологии на основании понятий Оно, Я, Сверх-Я и заимствованных у семейной структуры ролевых моделей вырабатывает нарративную схему, служащую реконструкции индивидуальных биографий, так и модель Маркузе позволяет интерпретировать произведения буржуазной культуры как образования, в которых, как правило, расходятся идеальное притязание и реальная функция. Маркузе констатирует практическую неэффективность искусства в отношении преследуемых им целей и обращает внимание на взаимосвязь между этой неэффективностью и автономным статусом искусства в буржуазном обществе. Это ставит рамки, в которых отдельная интерпретация может задаваться вопросами, каким образом произведение пользуется весьма исторически изменчивым пространством свободы внутри буржуазного общества и в какой мере оно стремится преодолеть свою практическую неэффективность.
Помимо понятий, заимствованных для построения модели критического литературоведения из Марксовой критики религии, мы заимствуем еще одно важное понятие из подхода Маркузе — понятие института искусства (или культуры). То, что мы называли функцией (единство критической интенции и аффирмативного воздействия), зависит у Маркузе уже не от двух факторов (реального положения носителей идейного содержания и его самого), но и от третьего — того статуса, который в буржуазном обществе приобретает изолированное от жизненной практики искусство. Этот статус (институт искусства) задает условия, в которых производятся и воспринимаются отдельные произведения. Пытаясь построить модель понимания литературных произведений с опорой на Марксову критику религии, мы могли упустить важное понятие института, потому что под словом «религия» подразумевали «идейное содержание» и не учитывали содержащегося в понятии религии институционального момента.
Модель Маркузе фиксирует важную теоретическую мысль: отдельное произведение искусства всегда воспринимается в заданных, так сказать, институциональных условиях, определяющих в итоге его реальное воздействие. Можно даже сказать, что институт искусства (автономия) занимает в этой модели ключевое место и детерминирует реальную общественную функцию произведения. Не вызывает сомнений, что институт искусства должен считаться общественным; но возникает вопрос, каким образом он доступен исследователю. Проблема становится очевидной, если сопоставить институт искусства с институтом права; последний дан нам в виде писаных законов, то есть корпуса текстов, непосредственно регулирующих работу института. Для института искусства не существует ничего подобного — его не определяют никакие правила. Цензурные положения могут оказаться полезными для изучения сферы влияния литературных произведений какой-либо эпохи, но они ни в коем случае не позволяют определить статус искусства в обществе. О нем можно судить прежде всего по рефлексии авторов и критиков. О статусе искусства классико-романтический период нам сообщают «Критика способности суждения» Канта и «Письма об эстетическом воспитании человека» Шиллера. (Авторы последних социологических работ о проблеме автономии справедливо ссылаются на эти сочинения.) Но если статус искусства в определенный исторический период раскрывается нам преимущественно в рефлексии авторов и критиков, то, постигая этот статус, мы приходим не к социальному факту, но к
Присутствие общества на разных уровнях этой модели и в разных значениях (как конструкт в произведении, как оппозиция искусства и жизненной практики при определении института искусства, как
Модель является герменевтической, поскольку диалектически трактуемое понятие функции занимает в ней центральное положение. Обладает ли произведение, в терминах Маркузе, критической или аффирмативной функцией и какой элемент (в заданный момент времени) доминирует — также зависит от позиции интерпретатора в современной ему общественной полемике. Если бы все зависело только от этого, то не возникало бы и никакой литературоведческой дискуссии; противоречащие друг другу интерпретации, привязанные к политической позиции интерпретатора, относились бы тогда друг к другу децизионистски. Возможность обсуждать расходящиеся друг с другом интерпретации пусть и не дает повода выносить на их счет решения (в смысле «верности» или «ложности»), но позволяет приводить доводы в пользу убедительности той или иной интерпретации. Как со стороны «социальной логики первичных носителей», так и со стороны «интенции произведения» в очерченной модели обнаруживаются данные, которые хоть и не носят номологического характера, поскольку могут быть получены лишь в контексте интерпретации, но обладают тем не менее относительно высокой верифицируемостью. Предпринятое интерпретатором определение функции произведения убедительно в той мере, в какой он способен связать социальные «данные» с «данными произведения». В этом заключается собственно герменевтическая задача. Кроме того, изложенная модель преследует цель обеспечить в рамках герменевтически понятого литературоведения возможность рационального обсуждения различных интерпретаций за счет включения в дискуссию, так сказать, номологических результатов анализа. Произвольное, не подкрепленное никакой теоретической рефлексией бесцельное толкование лишилось бы тогда легитимации.
Разумеется, я знаю, что реализуемость того или иного метода не является вопросом о том, чьи аргументы лучше (если Эрих Кёлер приобрел так мало учеников, принявших марксистский подход, то виной тому явно не недостатки его метода); и все же мы должны исходить из контрафактической гипотезы, что лучшие аргументы всегда добиваются признания, ведь в противном случае нам пришлось бы вообще отказаться от научных дискуссий.
Книга «Теория авангарда» Петера Бюргера опубликована в издательстве V-A-C Press.