Множественное женское тело
В издательском проекте Ильи Данишевского «Ангедония» (АСТ) вышла книга поэтессы, художницы, кураторки, феминистки Оксаны Васякиной «Ветер ярости», где поэтические тексты становятся частью большого разговора журналистки и книжной обозревательницы Екатерины Писаревой с Оксаной о частном опыте, переживании насилия и любви. По случаю выхода книги мы публикуем диалог Оксаны Васякиной и американской славист_ки и переводчи_цы русскоязычной поэзии Джоан Брукс (на момент интервью — Джонатан Брукс Платт), записанный в 2018 году. Редакторка текста расшифровки Галина Рымбу.
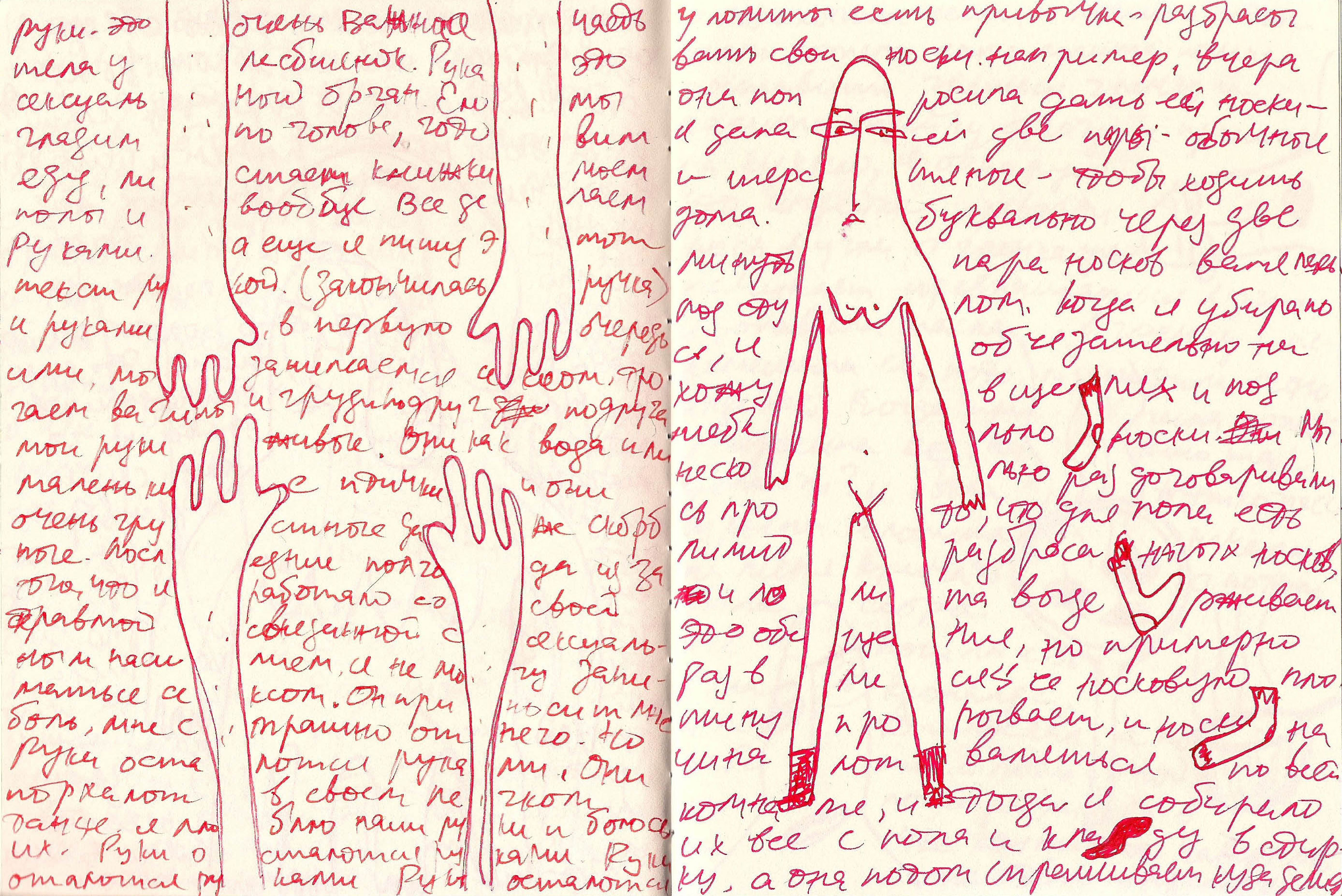
ДП: Я бы хотел для начала определить контекст нашего разговора. Как ты думаешь, мы можем сравнивать борьбу с гендерным насилием в России и общие мировые тенденции? Я имею в виду движение #metoo, оно сейчас продолжается, кажется, первая его волна уже закончилась, но оно сохраняет энергию. Здесь это движение началось раньше, — с Украины, потом появилось в России. Но движение #янебоюсьсказати — это совсем другой тип флешмоба, в нем мы слышим обыденные рассказы о насилии, и у него не было такой революционности, которую мы наблюдаем на Западе. Конечно, #metoo касается только элит — Голливуд, политика, журналистика и т. д., но у него есть результат — властных мужчин снимают с постов. Так вот, как ты думаешь, какое место российское движение занимает в общемировом процессе?
ОВ: Я часто думаю об этих двух флешмобах, об их отличии друг от друга. И, мне кажется, движение #metoo, как ты и сказал, имеет претензию на разрушение иерархических структур, оно настроено на то, чтобы девальвировать власть мужчин. Для меня это, в первую очередь, история про выравнивание. А #янебоюсьсказати мне видится таким протяжным громким воплем, #янебоюсьсказати — вообще обо всех женщинах, и в нем говорили все. У этих флешмобов изначально разный горизонт видения будущего: #metoo видит систему патриархальной власти, анализирует её и пытается демонтировать, а #янебоюсьсказати видит мир тотального насилия и пытается его стихийно проорать, потому что никто не понимает, что с ним делать. Поэтому, я думаю, у #metoo появились последствия, женщины показали пальцем на мужчин, мужчин сняли с должностей, кто-то ушёл сам. А #янебоюсьсказати оставил насильников анонимными. Я не встретила ни одного указания на вышестоящих мужчин, но там, на мой взгляд, была другая прагматика: во-первых все сняли напряжение, прокричались, а
ДП: Ещё я хотел спросить, как для тебя женское движение связано с ЛГБТИК+? Как мы знаем, в 1960-е годы самые радикальные феминистки начали двигаться в эту сторону, конечно, не всегда открыто: сначала феминизм, потом лесбийство. Но одновременно есть прекрасные революционные документы, как у Валери Соланас, где чувствуется, что это вообще не столько про женщин, сколько про транс*логику, где нужно выбраться из патриархального представления о поле в целом. И, с одной стороны, мужчины — это такие скучные никчемные существа, в отличие от женщин, которые живут интересно, а с другой стороны, — вот, например, драгквины: они мужчины, которые стараются выйти из маскулинности и быть ближе к идеалу. Как ты думаешь, в современном мэйнстримном феминизме проявляются такие радикальные идеи?
ОВ: Мне не очень понятна эта борьба за право быть лучшими, поскольку, дело не в том, что кто-то хуже или главнее, а в том, что женщин и мужчин по-разному социализируют и принуждают быть разными в этом мире. Что касается транс*вопроса, то это очень сложная тема. Я часто думаю про это, но пока не до конца понимаю, что могу сказать на этот счёт. Многие меня называют трансфобкой, но я не обижаюсь, меня скорее это смешит, потому что я ни разу не высказывалась публично на этот счёт, однако на меня уже повесили ярлык.
Если возвращаться к твоему вопросу, то отвечу так: я вижу, как в фемдвижении тема лесбиянок часто не берётся в расчёт. С одной стороны, это связано с лесбофобией, в том числе, и внутренней, но во многом еще на это повлиял и гомофобный закон, многие боятся. И я вижу, что либеральный феминизм, вообще не освящает тему лесбийства. У нас есть несколько радфем организаций, чьи праздники всегда проходят практически тайно, почти до последнего никто не знает, где они будут проходить, там собираются только женщины, и большинство из них лесбиянки. Когда я там бываю, то понимаю, что это совершенно другие тела. Например завтра я пойду на женскую вечеринку, а послезавтра пойду на конференцию в музей на Петровке, потом пойду на концерт, и, скорее всего, публики двух этих событий не пересекутся, только частично. И когда я фланирую между местами и событиями, то вижу разные габитусы. Для меня это ещё и вопрос класса. Либфем и соцфем тусовки включают в себя мужчин, следовательно там больше ресурсов, да и, что скрывать, у них больше свободы, они могут себе позволить заниматься искусством, у них был доступ к изучению философии, чтению книг. В радфем среде я вижу обычных девчонок, которые, кстати говоря, занимаются уличным активизмом, работают на обычных работах, иногда я думаю, что в толпе их невозможно заметить. Места, где встречаются феминистки-лесбиянки — это места безопасности для них, и они мне кажутся более уязвимыми. Я думаю, что одни других вообще никогда не поймут.
ДП: Это печально. Из твоего рассказа я понимаю, что есть гетто, которое защищается и таится, и есть публичное пространство доступное тем, у кого есть деньги и ресурсы. Хотя это тоже интересно, потому что феминистское движение второй волны ставило материальный вопрос на первое место. Например, Билли Джин Кинг. Она постепенно осознавала своё лесбийство, но самым важным для неё было то, что теннисистки должны получать равные с теннисистами деньги. Даже Соланас — почему она стреляла в Уорхола? Потому что он не делился своими деньгами, мало платил актёрам, она ведь тоже снималась в его кино. А потом он ещё и потерял рукопись её пьесы. Ведь как по Соланас? Какие мужчины достойны жизни? Те, которые много дарят. Она тоже видела, что мужчины не хотят делиться и предпочитают оставить женщин в ситуации материального угнетения. По-моему, это первичный вопрос для всех феминизмов. Либфем открыто говорит об этом, говорит о насилии в профессиональной среде, только оно имеет значение. Хотя радфем — это более милитантные люди, способные к революционному действию. Получается какой-то парадокс. Что с этим делать, как это разрешить?
ОВ: Я не знаю. Может быть, нам нужно делать проекты, направленные на пересечения и встречу сообществ. Но, если честно, я плохо себе представляю, что это может быть.
ДП: Давай про стихи. Я заметил, что в твоих текстах насилие появляется в разных видах. Например, в стихотворении «Я не вижу женщин на тёмных площадях…» все начинается с объективации:
Я вижу на них одежду стилизованную под военную форму
над ней плывут солоноватые взгляды
они скользят по моему телу
они подают мне сигнал:
ты — просто женщина
ты рождена исчезать/ты рождена растворяться в облаке пепельных дрожащих от похоти пальцев/тебя научили взмокать от одного вида их
страшных улыбок…
Но дальше в цикле мы читаем описания изнасилования, причём они работают по-разному. Я вижу тут два регистра: с одной стороны высокий, заклинательный дискурс, например:
они не могли пикнуть, а выли выли выли
о потере своего тела
о потере своей воли
о потере себя под землей
они выли
А с другой, как в том фрагменте, когда мать описывает своё изнасилование — оно очень обыденное:
он бил меня всего один раз когда узнал что я ему изменила линолеум был
в крови […] a потом когда глаза заплыли синими пятнами […] он содрал с меня юбку разорвал колготки вместе с трусами начал насиловать
Или вот есть такие, я бы сказал, смешанные формы:
все эти женщины — изуродованные насилием. убитые. заморенные чувством вины. униженные. сломанные.
лежат в земле
идут по земле — в сад за детьми — плодами насилия.
в магазин за хлебом и молоком — чтобы кормить своего насильника
Мы видим два вида описания изнасилования, но есть и третий вид — очищающие насилие отмщения, где тело восстанавливается именно через кровь:
мы покрыты коркой
крови и спермы
она стянула кожу
она пустила нас под землю
вырастут новые груди
вырастут новые губы
волосы вырастут новые
груди черные зубы черные
волосы черные вырастут
новые черные от ярости
Получается очень сложный образ: у нас есть объективация, есть реальное вторжение в тела женщин, обыденное изнасилование и отмщение. Ты можешь рассказать, как эти разные образы насилия работают вместе, где для тебя связь между ними? Это иерархия, когда мы начинаем с объективированных тел, потом эти тела разрубаются, подвергаются изнасилованиям и в конце восстанавливаются, но в новом качестве? Или что-то другое?
ОВ: Это сложный вопрос. Вообще тексты в «Ветре ярости» расположены в хронологическом порядке, по мере написания. Собственно, та последовательность видов насилия, которую ты озвучил, она такая и в тексте. Но я очень хорошо помню, как начала писать самый длинный текст (центральный в книге). Он, наверное, и самый сложный для понимания, потому что вмещает в себя вообще все перечисленные тобой регистры. Я ехала в поезде из Москвы в город Волжский к маме, смотрела на степь, и в один момент из степной земли на меня начали выходить эти женщины. Сначала, когда я писала этот текст, он был без документальных вставок, но я понимала, что так он неполон, потому что эпическое повествование съедало проблему, вокруг которой оно разворачивалось. Думаю у всех с эпосом такие отношения: это было, то было или будет, но оно не здесь и не сейчас, или оно всегда было и всегда будет и происходит всегда. В эпосе есть нечто священное, на которое невозможно покуситься, которое невозможно наказать, и поэтому мне хотелось выдернуть из эпоса повседневность. Но при этом я понимала, что репортажный стиль не даёт ключей к тому, чтобы справиться с тем, что пережили многие из нас. Смена регистров — это как раз про то, что есть материальная реальность, а есть другая, в которой у нас есть возможность работать с травмой. И ещё я сейчас подумала, что репортажные фрагменты описывают ситуации, в которых женщины оказывались одни, а мифологический пласт — он про многотелость, у которой есть ресурс для того, чтобы с травмой справиться.

ДП: Если тело объективированно, то женщина как бы одновременно и единица и общая, принадлежит всем. Но когда женщина подвергается насилию, тело разрушается, и она становится меньше единицы. Однако как раз за счёт этого разрушения появляется возможность коллективного тела. Так что
ОВ: Может быть.
ДП: И появляется образ коллективного тела в разных ипостасях. Например, в стихотворении «Лица их из земли и древесной пыли…» есть мирное солидарное коллективное тело:
все они смотрят тысячеголовной женщиной
все они машут нам тысячесоставной рукой.
Но есть еще коллективное тело мщения, например, в стихотворении «Мы пахнем телом и землей»:
к нам теперь никому не прикоснуться
те кто тянули к нам руки налипли на наше тело и движутся с нами
кто на нас посмотрел с вожделением растворился в нашей черной крови
и нашей черной тоской захлебнулся
и сам для себя незаметно стал нашим телом
Tут даже насильники становятся частью этого тела. Почему эти образы разные?
ОВ: Есть ещё один образ коллективного тела, который появляется в моём стихотворении про Сибирь. Это тело, которое мучается от того, что оно многосоставное, оно настолько тесное, что в нём невыносимо. Думаю, что я сама по-разному чувствую это тело, и оно всегда по-разному реагирует на воздействие и
ДП: И пол всё ещё есть? Это одна большая коллективная женщина?
ОВ:
ДП: Нет. Расскажи.
ОВ: Семья-матрёшка — это когда в семье живёт несколько поколений женщин, без мужчин: бабушка, мама, мамины сестры и мамины дочки и сыновья. Как правило, это семьи часто бывают жутко токсичными, но при этом они настолько мощные в своей сплавленности, закрытости, что мужские тела на фоне этих семейных тел кажутся маленькими, отдельными и одинокими. Но при этом мужское тело — публичное тело, направленное в мир. Я размышляла о женском коллективном теле и думаю, что к нему могут прилипать и фрагменты мужских тел, но они буквально сразу перестают быть мужскими, настолько силён этот магнит. Есть же такой смешной стереотип, когда говорится, что мужчина, живущий в семье женщин, становится женственным геем.
ДП: Со мной это происходит сейчас!
ОВ: Ха-ха! Вот видишь!
ДП: Просто наша коммуналка, где я живу, — это совсем женский коллектив. У моей соседки очень много подруг. Она недавно страдала
ОВ: Но при этом женщина, которая попадает в мужской коллектив, не становится мужчиной, она всегда остаётся Другой. А женское тело воспринимается и порой действует как принимающее, даже засасывающее.
ДП: Мне кажется, это очень интересно, я наблюдаю подобное в
ОВ: Так есть же прекрасный текст Натальи Малаховской, который называется «Материнская семья». В конце 70-х как раз остро встал вопрос: кто такой вообще мужчина в семье, если от него, пьющего, не следящего за детьми, не работающего, не стоящего в очередях, нет никакой пользы? И вот Малаховская в своей манифестарной статье пишет о том, что материнская семья (читай семья-матрёшка) изгоняет мужчину. Это, конечно, было революционным заявлением на фоне всех акций государства, которое пыталось наоборот мужчину спасти и вернуть в семью.
ДП: Не жалко мужчин?
ОВ: Мне? Нет. Многие женщины мне пишут и просят меня проявлять сочувствие к мужчинам, но я понимаю, что сочувствие, присущее женщинам, — это ведь тоже сконструированная вещь. От нас постоянно требуют эмпатии. Когда я слышу, что женщины тревожатся за мужчин, я прошу их, в первую очередь, тревожиться о себе, ведь за мужчин итак все тревожатся. Когда мне будет 60 лет, я никому не буду нужна, а мужик найдёт себе какую-нибудь женщину да помоложе, которая его пожалеет, потому что он мужчина, и его нужно обслуживать, сам-то он не справится. В России есть куча домов, в которых ждут мужчин, любых мужчин, не потому что они хорошие, не потому что они поддерживают своими ресурсами семью, а потому что он просто мужики, и должны быть в доме: лежать на диване, ходить на футбол, делать любые бесполезные для быта и эмоционального состояния окружающих вещи. Моя мать содержала альфонса девять лет, он споил её и избивал, лежал на диване. Когда они ссорились, она сбегала от него. Он залазил в квартиру по балконам и стучался в стекло, чтобы он его не выбил и ничего не сломал, его впускали в квартиру, и все начиналось заново. Я её постоянно спрашивала: «Почему ты его сохраняешь?» И она отвечала мне: «Ну он же мужик, я боюсь остаться без него». Но больше всего она боялась его. Женщины часто достраивают себя через партнёров. На это женщины тратят много сил. Почему мне должно быть жалко мужчин? У них итак очень много привилегий, и они ими успешно пользуются. Отказаться от привилегии, которая у тебя есть, — это свобода, но когда у тебя нет привилегий, ты не можешь даже выбрать, не то, что отказаться. Вот в чем разница.
ДП: Я бы хотел поговорить подробнее о теме ребёнка у тебя в твоей поколенческой проблематике. Она проявляется очень сильно в твоем рассказе про школу в центральной поэме цикла, где девочки сами мстят «маленьким насильникам», а преподавательница не помогает им. Раз нет поддержки от взрослых, они сами организовываются против мальчиков. Это интересно, потому что в Америке место уязвимости женщин это, в первую очередь, университет. Там есть целая культура вечеринок в общежитии, к тому же, есть эти парни спортсмены, которые всех бьют, меня несколько раз они били. А в России, кажется, всё начинается намного раньше, очень многие женщины имеют опыт изнасилования в детстве или в период пубертата. Я уверен, что у многих американок тоже есть такой детский опыт, скорее всего, также в не очень благополучных семьях, где есть посторонние мужчины. Но в России это более заметно и, кажется, распространено. Как тут культура сексуального насилия против девочек влияет на женский вопрос и делает его специфическим в России?
ОВ: Я плохо помню детство, но я знаю этот дискурс: он задирает мне юбку, он дергает меня за косички и т. д. Когда ты приходишь в детский сад, то сразу становишься объектом насилия. У меня, кстати, была история в саду. В группе был мальчик, по-моему его звали Костя, мы с ним постоянно дрались и ссорились, он меня систематически дергал и бил. А мы с ним были одного роста, и при этом самые высокие. Поэтому во главе шеренги нас ставили первыми и по очереди, но не всегда наша очередность соблюдалась. Я сад ненавидела, а воспитатели меня очень любили. Они мне сшили накидочку и сказали: «Когда ты будешь приходить в сад, надевай накидку и будешь королева». Это была такая уловка, потому что из сада я даже в мороз умудрялась сбегать, в одних колготках. А мать постоянно уезжала на учебу, отец был на работе или ещё
ДП: Мне это трудно представить. Это значит, что мужик настолько слабый, что он всю вину сваливает на неё и ссылается на то, что не может себя контролировать?
ОВ: Да. У Мещаниновой там есть как раз речь отчима, который так и говорит: это ты такая красивая, свежая, и ты только и думаешь о том, чтобы меня затащить в постель. Насколько я помню, в 13-14 лет девочка интересуется сексуальной жизнью, но не то чтобы она мечтает заниматься сексом, у неё на уме подружки, тусовки у
Думаю, что очень много молодых женщин вовлекают во
ДП: Это очень странно, ведь обычно к подросткам бережно относятся. Хотя, может быть, в этих семьях-матрешках, к которым периодически прилепляется мужик, немного другая сексуальная экономика, и получается, что в этой семье пубертатная девушка сразу должна стать взрослой и зрелой, а это значит, что тебе сразу нужен мужчина, чтобы ты обслуживала его и не составляла конкуренцию другим женщинам. Ты сейчас должна стать женщиной, чтобы работать как женщина, а идея, что тебе нужно ещё учиться, поступить в университет, найти профессию и только потом, если ты захочешь, ты сможешь найти свою семью, такая модель исчезает? Или это про то, что независимость не для нас, потому что мы недостаточно обеспечены? Почему это происходит? Почему несовершеннолетние девушки попадают в такие ситуации? Неужели женщина настолько обесценена здесь, что подумать, что у неё есть какое-то будущее, невозможно? Она уже в 13 лет может только заниматься сексом и мыть посуду? Как это понять?
ОВ: Да, с одной стороны, — страшный патриархат, с другой, — я думаю, что в семье очень сложно соблюдать границы друг друга, все сплавлено в одно тело.
ДП: Ещё маленькие квартиры…
ОВ: Тесные маленькие хрущёвки, все близко. А ещё мне кажется, что это такой вид наказания и мести за то, что ты молодая и свежая. Это про ненависть и желание отыграться на молодости. Но и у нас же совершенно нет сексуального воспитания. Никто не говорит о сексе. Мне было лет 16, когда мать решила рассказать мне, и было уже очень поздно. В нашем времени как будто никогда нет момента, в который можно поговорить о теле и сексе, с самого начала это то, о чём шепчутся, пока дети спят.

ДП: Напоследок я бы хотел поговорить про голос в стихах. У тебя подзаголовок цикла «Песни ярости» и образ песни появляется повсюду. Например, в стихотворении «У меня было много крови»:
Тот кто посмел притронуться
К моему белому телу
Белому телу нежному
Белому телу в звездочках родинок
Тот кто посмел притронуться
Станет в горле твоём петь моя ярость
Это в ситуации, когда тело насильника уже разрушено, и прилипло к коллективному телу мести. Или «иногда ты можешь прийти и послушать, как они во сне на всех поют одну песню/ нету в ней слов только протяжный звук уууууууууууыыыыыы» — это и песня и вой одновременно, песня без слов. Или то, что раньше цитировал: «они не могли пикнуть, а выли выли выли…» — это как бы отсутствие звука и одновременно вой, а потом опять мы наблюдаем смену регистров, как в случае эпоса и документа. Мы слышим, как мать обычным, привычным языком описывает изнасилование, или подруга рассказывает о раскрытии убийства. Чувствуется серьёзное напряжение, но мне интересно, как это связано с голосом жертвы насилия, которая хочет выйти из жертвенности. Где вой заканчивается, слова начинаются, песня поётся? Как ты чувствуешь эти изменения?
ОВ: Мне кажется, я не смогла бы ответить на этот вопрос пару месяцев назад, а сейчас уже могу. Прочла несколько книг и статей Светланы Адоньевой, и, мне кажется, она очень много мне самой про меня рассказывает. У неё есть статья и лекция про деревенских плакальщиц. Там она говорит не о том, что они поют, а о том, что происходит, когда они поют, и зачем они это делают. Плакальщица приходит в дом покойника или покойницы, у неё есть статус, который даёт ей возможность говорить и описывать то, что происходит в этом доме. Она показывает всем, что смерть меняет статусы: жена становится вдовой, дети сиротами, муж вдовцом. Плакальщица обхватывает руками человека, который переживает потерю, и рассказывает ему или ей, что происходит. Причём она не поёт, не говорит, не шепчет, она произносит слова в особенной манере, это гибридный регистр, который похож и на песню и на речитатив, но на деле не является ни тем, ни другим. В этой речи вопленицы есть своя композиция и внутренняя логика, которые работают на катарсис, на переживание. Вышедший из ритуала человек уже инициирован, он понял, что произошло, и пережил горе. И, мне кажется, что у пения и вопля в «Ветре ярости» именно эта функция. Вопль разворачивается во времени, переходит в речь, и я переживаю всё, становлюсь другой, новой.
ДП: Как терапия.
ОВ: Да.
ДП: А как же борьба? Есть же идея, что катарсис останавливает возможность борьбы. Ну вот, например, в СССР трагедия всегда должна была быть оптимистической, в ней нет места трауру, потому что нужно дальше бороться: мы перешагнем через труп нашего покойного героя и пойдём дальше к коммунизму. А у тебя коллективная женщина машет тысячесоставной рукой и тоже идет дальше. Но если катарсис важен, то для кого и как?
ОВ: Галя Рымбу как-то хорошо сказала, что это самоучитель по самообороне, но при этом коллективное тело поддержки даёт тебе силы идти дальше.
ДП: Да, это превращение в боевое тело. Мы переживаем и одновременно мы готовимся к борьбе. И есть катарсис, но не окончательный.
ОВ: А его и не бывает, ведь ничего никогда не кончается, все длится. И если так думать, то и утопии никакой нет.
ДП: Но раньше ты говорила про утопический остров женщин…
ОВ: Да, раньше я так думала. Теперь я думаю по-другому. Я понимаю, что остров женщин мне нравится, туда можно ездить отдыхать, набираться сил, но возвращаться, чтобы бороться дальше.
