Михаил Ямпольский. «Турбулентность и "между". Ахрония у Драгомощенко, Гёльдерлина, Серра»
Сегодня, в день рождения Аркадия Драгомощенко и в преддверии конференции «Иные логики письма», которая пройдет 13-14 февраля в Смольном, L5 публикует фрагмент из новой, еще не вышедшей книги Михаила Ямпольского.
Но, пожалуй, не Делёз, а другой интерпретатор Лукреция, Мишель Серр был особенно значим для Драгомощенко. АТД упоминает его неоднократно. В эссе «Общее место» он, например, вспоминает: «Хорошо помню, что, возвращаясь поздним вечером домой, я вспоминал слова Мишеля Серра о том, что «у начала нашей жизни — великая смерть», что «у начала средиземноморской эллинской культуры — земля, которая — одновременно зовется Египтом и могилой, Шеолом, хаосом или истоком…»
И тогда, быть может, стремление к «бессмертию» при всей своей теперь почти «существенной буквальности» есть не что иное, как стремление осознать то, что «бессмертие» как бы обязанное изымать из тьмы смерти, на самом деле предстает стремлением именно к сокрытию, погружению во тьму, тень, тогда как смерть — напротив, вырывает нас из нее на свет, а «вырвать из тьмы, — здесь Мишель Серр прибегает к известной метафоре, — нередко означает разрушить»[1]. АТД тут цитирует из эссе Серра «Орфей. Лотова жена» (фрагмент известной книги «Статуи»), и предисловия к нему, опубликованного Борисом Дубиным в «Иностранной литературе» (1997, № 11) незадолго до написания им «Общего места». Cерр, в своем эссе, конечно, не ограничивается трюизмами о вечной связи жизни и смерти. Он разворачивает сложную метафору, связанную с мифом о жене Лота, которая обернулась вопреки запрету и превратилась в соляной столб — статую: «Лотова жена слышит извержение и грохот, горячий ветер обжигает и подталкивает ее в спину. Из жалости к зовущим на помощь в отчаянии и страхе, слыша их оклики, теряя голову, она в испуге оборачивается. И видит. Цепенея от ужаса, принимая кару, она застывает соляным изваянием. Она оборачивается — и появляется статуя»[2]. Но что собственно увидела жена Лота? Она увидела смерть. «У начала нашей жизни — великая смерть. Мы уже не помним, забросано ли камнями или просто погребено под каменной плитой это мертвое тело. Но знаем, что обязаны ему жизнью, — мы, воскрешенные дети этого высящегося изображения. Рухнув на землю, в миг расставания с жизнью его красота рассыпалась на мириады частиц и обернулась неисчислимым множеством крошечных жизней. Наши камни скрыли то, чему нет имени ни в одном языке. Заслонили пугающее загробье. И курган из камней, первое изваяние на свете, в тишине еще до всякой речи разом связал жизнь и смерть, тело и вещь в единый, нечеловечески тугой узел, откуда является все, — сокровищницу человеческого, клад знания и слова»[3]. Смерть — это кишение частиц, которые нельзя ни увидеть, ни назвать. Для того, чтобы произнести слово, чтобы появилась речь, нужно сначала увидеть (и тут Серр совершенно созвучен АТД). Но для того, чтобы увидеть, надо остановиться, обернуться в рефлексивном повороте, нужно превратиться в статую. Статуя — это странное образование. Она сама является застывшей формой, без которой нет ничего живого, она выражает жест рефлексии, который фундаментален для живого организма, и одновременно она воплощает в себе остановку кишения частиц, то есть смерть.

Серр, прежде всего, был для АТД философом времени, вернее тем мыслителем, которому удалось связать симулякры и атомы Лукреция и Эпикура с временем, и сделать это совершенно иначе, чем Делёз. Ханьо Беррессем высказал предположение, что толчком для обращения Серра к Лукрецию стало эссе Делёза о симулякре у Лукреция (1961), опубликованное в «Логике смысла». Оно же, вероятно, приобщило к этой теме и Деррида и Лакана [4].
В одном «заказном» тексте АТД, написанном по просьбе учредителей премии Андрея Белого, Драгомощенко вместо рассказа об истории премии (чего от него ожидали) написал небольшое размышление о памяти, истории и месте поэта в контексте исторического. Вот как начинается этот текст:
"Я дефективен. Среди множества дефектов, которыми меня odarila природа, есть один весьма, как теперь я понимаю, существенный, а именно — дефект ощущения/представления времени. Я путаю времена.
Восстание Спартака, битва при Фермопилах, беседа с Михаилом Борисовым о только что «прочитанной» фотографии, включая очередной «снимок» Бога [5], происходят всегда в одно и то же время — во время происходящего в моей голове. Мишель Серр придерживается иного мнения, время для него — это порог между беспорядком и чрезмерностью, последний всплеск сложности на грани хаоса, предшествующий пространственности; время, говорит он, — это вторжение чрезмерности в сложность.
Быть может и по этой причине тоже, я (как мне думается, безо всяких на то оснований) нашел убежище в довольно тесной резервации, именуемой поэзией. «Не спрашивай о том, как там живется. Не спрашивай, как доехать. Обратный адрес не принято писать, поскольку его нет. Обычно пишут — Башня, г-ну Скарданелли»[6].
В этом зачине скомбинированы три мотива. Первый — неспособность самого АТД к существованию в хронологически линейном времени. Второй — не очень понятное тут обращение к теории времени Серра, которая почти не объяснена. И третий — утверждение, что ахрония сознания прямо ведет в поэзию. Поэзия в таком понимании — это ахроническая область, путающая времена. И наконец, этот тезис завершается упоминанием Скарданелли, имени, которым впавший в безумие Гельдерлин подписывал свои стихи. Гельдерлин выбран Драгомощенко неслучайно. Он испытывал большие сложности с временем, особенно обострившиеся в период его болезни. Вот, что пишет по этому поводу Роман Якобсон: «Стихи Гёльдерлина последних пяти лет почти без исключения подписаны Скарданелли; слева от подписи авторской рукой помечена фантастическая дата (3 марта 1648; 24 апреля 1849 и под.) Датировка обнаруживает некоторые устойчивые числовые привязанности Гёльдерлина. Датой 24 марта 1748 помечено четыре стихотворения — все, написанные незадолго до смерти: «Die Aussicht» (Н 312, 926), «Der Zeitgeist» (Н 310, 925), «Der Fruhling» (H 307,923) и «Griechenland» (Н 306,922)» [7]. Все перечисленные стихотворения так или иначе касаются темы времени. Странность таких датировок заключается в том, что они отсылают либо ко времени до рождения поэта, либо после его смерти. Гельдерлин умер в 1843 году.
Тот же Якобсон, характеризуя стиль поздних стихов поэта, делает важное наблюдение: «Позднейшие поэтические монологи Гёльдерлина исключают всякий намек на сам акт речи и его момент, на действительных участников общения. Табуированное имя отправителя решительно вытеснено Скарданелли; адресат стиха и судьба рукописи, помеченной возможно удаленной датой, становятся совершенно безразличны для автора. Грамматические времена текста ограничиваются немаркированным настоящим временем. Это «торжество презенса» (Бешенштейн, 44) как бы отменяет временную последовательность, открывая «в каждом времени года полноту круговорота времен». Гамбургский этюд «О методах действия поэтического гения» может по-новому осветить символику Скарданелли: Гёльдерлин предостерегает поэтов от «бесконечности изолированных моментов» и одновременно от «мертвого и умертвляющего единства». В лирическом презенсе должна быть познана «преходящесть бесконечного», в которой «противостояние и единство нераздельны»[8].

Сама фигура Гёльдерлина у АТД вырастает в эмблему поэта (и поэзии), как продукта ахронии. Именно в этот контекст можно вписать и гёльдерлиновский паратаксис, о котором писал Адорно. Гёльдерлин, или вернее Скарданелли, поэт утративший, подобно АТД, время и место пребывания, это поэт, помещенный в темпоральность серровского типа. Драгомощенко несколько раз формулирует существо серровской теории времени. Так, например, предворяя небольшое эссе о шестидесятых, которое начинается с утверждения неопределенности времени, АТД пишет: «В своей книге “Метод» Мишель Серр, как затем и в работе Genesis, утверждает, что «развитие истории на деле напоминает то, что описывает теория хаоса. И если это понять, нетрудно будет принять тот факт, что время не всегда обнаруживает себя в траектории линии и таким образом состоящие в близости факты культуры могут быть разнесены по такой линии «на далекие расстояния” [14]. Здесь любопытно упоминание несуществующей книги Серра «Метод», которая, скорее всего, принадлежит Эдгару Морену, так же занимавшемуся теорией хаоса.
Более обстоятельно Драгомощенко говорит о теории времени у Серра в эссе «Местность как усилие». Здесь АТД вводит Серра рассуждением о наличии неких точек, в которых место и время становятся неопределенными. Это «место» прямо ассоциируется с местоположением поэта, сходным с «неместом» занимаемым в пространственно—временном континууме Скарданелли. Это странное место, в котором язык перестает разворачиваться в пропозиции, и это именно то место, в котором, как будет видно из дальнейшего, располагается фотограф. АТД пишет, что реальность в таких «неместах» не поддается прямому взгляду, ее «возможно схватить лишь looking awry, тотчас упустив в ускользающем не-месте исходного положения вещей, где происходит переход реальности в «реальное» [15]: точка распада, точка фрагментации, несвершаемого превращения. В «месте», где ослабевает, если и вовсе не размыкает усилия, «грамматика». Такие «места» неизмеримо опасны и не сулят выгод, поскольку переобоснования субъективности, производимые в этих регистрах, разворачиваются скорее в постоянстве мутаций (разворачивающих и одновременно уничтожающих узоры со-возможностей), нежели в исторической экспликации. Возможно,
«Классическое время соотносимо с геометрией, не имея ничего общего, — на что указывал еще Бергсон, — с пространством, но только с метричностью, неукоснительно определяющей дистанции и соотношения (курсив ничей). Напротив, обратившись к топологии, возможно приблизиться к иному его пониманию. <…> Физика Лукреция, как и многие положения современной науки, рассматривает время в аспекте теории хаоса. Если образно, то время может быть представлено чем—то вроде скомканной, складчатой и множественной разнородности… — в которой искомая граница, а еще и складка (латинское marge — край, на полях, где еще можно встретить летящую на слабом северном ветру последнюю сияющую паутину), есть пресловутая складка материи, порог последнего напряжения, образующего место, которое никогда не есть это место, но — смещение, замещение, чьи ножницы беструдно раскраивают мешок репрезентации, вне которого уже привычно простирается не исчерпывающее себя исчезновение одного, и «не появление» другого. Иначе: не исчерпывающееся каким бы то ни было явлением — исчезновение. Попадающий в это не-место «неспособен выговорить ничего»…»»[16].

О каком «постоянстве мутаций (разворачивающих и одновременно уничтожающих узоры со-возможностей)» идет речь, и как все это соотносится с понятием времени у Серра, которое «прекращает быть оператором, переходя в область риторики или метрики»?
Начать лучше всего со сформулированной Серром довольно рано критики Бергсона: «Бергсоновская критика обозначала в качестве фундаментальной ошибки сведение времени к пространству; но совершенно очевидно, что следует утверждать противоположное. Плохое понимание времени (а следовательно и эволюционных процессов) вытекает из факта дурного использования времени (которое единственно и может передать строгую идею континуальности), или использования его противоположности, то есть линии»[17]. Время не есть нечто протекающее в трансцендентальности, оно порождается одновременно с процессами, которые нуждаются в пространстве для своего разворачивания. Модель таких процессов может быть, по мнению Серра, найдена у Эпикура и Лукреция. У Лукреция атомы несутся, «падают», как говорит Серр, «ламинарным потоком». Этот поток сам по себе уже несет в себе идею определенного времени, так как в нем воплощен термодинамический процесс нарастания хаоса, энтропии. Этот процесс, как мы знаем, необратим и описывается стрелой однонаправленного времени. Именно тут и вступает в дело лукрецианский клинамен. Клинамен нарушает вертикальность ламинарного потока, вносит в него завихрение, турбулентность, которая оказывается первым элементом усложнения хаоса, первым антиэнтропическим, как говорил Шрёдингер, неэнтропическим жестом. Завихрение, турбулентность, водоворот меняют направление движения частиц в потоке. Частицы начинают двигаться против основного течения, возникает петля, открывающая простор для рекурсивных процессов и для другой конфигурации времени — времени повторения, идентичности, тавтологии.
Каждый поток и каждая турбулентность создают свое собственное время, выпадающее из некоего воображаемого универсального хроноса. Серр — теоретик темпоральной множественности. Темпоральность такого первичного морфогенеза сама по себе очень сложна. Эдгар Морен, назвавший устойчивую турбулентность «большим колесом» и «архее-формой»[18], показал, что в таких клинаменных вихрях сосуществуют два типа «ретроактивности». Позитивная выражается в постоянном нарастании, движении к катастрофе к энтропии и к хаосу, к дисперсии. Но это движение линейно, направленно, то есть, в нем заключен хорошо знакомый нам тип темпоральности — линейное время. Негативная ретроактивность ведет к поддержанию постоянства, к стационарной энтропии, сохранению форм, повторению, возобновлению, то есть, к темпоральной цикличности. И эти два процесса всегда вплетены друг в друга. Завихрение как будто усиливает хаос, создает мощный энергетический водоворот, но водоворот стабилизируется, колеса продолжает вращаться, хаос уступает место формам и порядку. Но это значит, что в каждом очаге времени одновременно присутствуют две взаимоисключающих темпоральности, нечто похожее на разнонаправленные движения, о которых говорил Гёльдерлин.

Но для АТД самым важным у Серра было утверждение прямой связи темпорализации и морфогенеза с письмом. Ламинарный поток настолько универсален для мироздания, что он никак не кодирован и не имеет памяти. Но там, где возникает клинамен, ситуация меняется. Возникает память: «Так производится связь, соединение. Турбулентность остается стабильной в водопаде, немножко, долго, очень долго. Она поддерживается как открытая система благодаря потоку, идущему вверх в течении, направленном вниз. Она получает и испускает атомы. <…> Соединение это, таким образом, — память. Иными словами, кодирование накладывается как только происходит отклонение от равновесия, в этот самый момент появляется код как память исходных условий вне линейности падения. <…> Он кодирует клинамен, и никогда не единообразное падение. Затем атомы—буквы формируют слово, фразу одновременно с тем, как они соединяются в теле. <…> В вещах появляется письмо, оно возникает из вещей, оно неотличимо от вещей. Точно так же, как отклонение производит связь, оно производит и кодифицированную последовательность»[19].
Если у Бергсона и Делёза образы, картинки, первоначально составляющие существо вещей и неотличимые от них, в процессе замедления превращаются в репрезентацию, то у Серра текст, письмо заложены уже в генезисе форм и вещей, они возникают и сохраняются благодаря включенному в них письму. Письмо к тому же связано с памятью, то есть именно оно открывает принципиальное для времени измерение прошлого. Я бы даже сказал, что письмо, о котором говорит Серр, это не проза, но поэзия. Именно в поэзии выражает себя противоречивая темпоральность генезиса, сочетающая движение вперед и назад, линейность и цикличность. Серр в данном случае говорит о том, что время первичного морфогенеза ритмично. Любая турбулентность, в которую вписана рекурсивность, повторение существует в неком ритмическом биении. Философ пишет: «Ритм первый раз появляется в среде атомистов, Левкиппа и Демокрита в качестве одного из ключевых слов их философии. Он означает форму»[20]. Более того, он прямо заявляет: «Теория атомов порождает ритм, ритм поэмы говорит о теории атомов»[21]. Но ритм — это время. Форма поэзии — это форма времени. А время возникает в очагах клинамена из пространственных конфигураций процесса. Именно поэтому АТД может сказать: «Время прекращает быть оператором, переходя в область риторики или метрики».

Но бытие поэзии гораздо сложнее. Сами вещи кодированы и пишут некий текст. Но для поэта нет места внутри турбулентности, иначе он сам стал бы частью собственного текста. Здесь возникает та же дилемма, что и с фотографией. Чтобы увидеть репрезентацию в видеоискателе, а потом на фотобумаге, надо быть наблюдателем, а не частью процесса, не течением времени. Иными словами, нужно находиться не в том месте, где пульсирует турбулентность, а вне его, необходимо помещаться в «не-месте».
Если представить себе серровскую темпоральность как зоны разных вихрей и турбулентностей, каждая из которых отделена от другой и имеет свое собственное время, не трудно понять, что между этими морфогенными воронками существуют нейтральные зоны. Это зоны вне времени, не-места. Именно в этом смысле Скарданелли существует вне времени и места, хотя и мыслит поэзию, как синтез разнонаправленных времен.
С такой картиной связано несколько важных моментов. Первый — это возможность топологического представления времени. Речь попросту идет о том, что вихрь одного пространства, оторванный от другого вихря, может быть сближен с ним топологически, как если бы они существовали на плоскости, которую смяли, образовали складки и внутри этих складок удаленные друг от друга воронки начинали бы соприкасаться. Напомню, как АТД характеризует эту топоплогическую складку: «…есть пресловутая складка материи, порог последнего напряжения, образующего место, которое никогда не есть это место, но — смещение, замещение, чьи ножницы беструдно раскраивают мешок репрезентации, вне которого уже привычно простирается не исчерпывающее себя исчезновение одного, и «не появление» другого. Иначе: не исчерпывающееся каким бы то ни было явлением — исчезновение. Попадающий в это не-место «неспособен выговорить ничего»…»
Вот, что такое не-место. Это невообразимая плоскость, на которой одно время соприкасается с другим и может, таким образом, произвольно сблизить события разных хроносов, несовместимых темпоральностей. Поэт, как атопическое существо как бы прописан на этом не-месте. Отсюда его темпоральная «дефективность». Складки, сближающие зоны разной темпоральности, образуют то, что Серр называет зонами интерференции, темпорального взаимпроникновения. Философ воображает некие особые существа — вестники, как у Хармса, ангелы или бога Гермеса (чье имя было им присвоено серии ранних книг), которые проникают в эти зоны интереференции: «Этот бог или эти ангелы проходят сквозь смятое время, осуществляя миллионы связей. Между всегда казалось мне предлогом первостепенного значения»[22]. Эти вестники движутся с необыкновенной скоростью и создают переносы смыслов и значений. В языке их роль исполняет метафора, означающая «перенос».
Эта проникновение из одной темпоральности в другую позволяет Серру предположить способность времени просачиваться. В одном из немногих переведенных на русский язык текстов Серр пишет: «Разве можно не чувствовать, что время скорее просачивается, чем течет? Далекое от ламинарного течения, подобно тихой реке, время переходит вверх и вниз по течению, возвращается, останавливается, двигается, делится и вновь соединяется, подхватывается водоворотами и встречными течениями, нерешительно волнуясь, множась на тысячи рукавов словно Юкон. Иногда время проходит и, если проходит, то как сквозь дуршлаг. Слово «дуршлаг» происходит от латинского «коларе» — фильтровать. Этот фильтр или ситечко обеспечивает лучшую модель течения времени. Внезапные взрывы, неожиданные кризисы, периоды застоявшейся скуки, обременительные и безрассудные регрессы, долгие блокады, точные сцепления и, вдруг, акселерационный прогресс. Они встречаются и смешиваются в научном времени подобно интимному слиянию душ, в метеорологии как речном бассейне. Смогли бы мы понять столь очевидные факты без теории процеживания? Эта теория снова вскрывает старые предчувствия, подтвержденные лингвистикой: в
Драгомощенко проявлял большой интерес к серровскому «между». В 2009 году он публикует важный текст о фотографии с ироническим названием «Париж стоит мухи». Муха тут с большой вероятностью отсылает к Серру, который объяснял, что прохождение через «между», существующее между мирами, напоминает по своей конфигурации полет мухи. Мы проходим между онтологическими зонами по складкам в пространстве, которым в своем «ломаном» полете следует муха. Эти складки пространства, в котором спрятано «между», «сравнимы с полетом мухи или осы, той самой, которую Верлен в своем знаменитом сонете описывает пьяной от собственного безумного полета»[25].
АТД так начинает этот текст: «В Amsterdame происходит второй, докучливо скрипучий поворот винта. Помимо горних, турбулентных зон и надежд на бокал вина существуют аэропортовские отхожие места. Там, невзирая на гендерные различия, размещаются писсуары. История создания подобного урыльника не является магистральной для следующего повествования. Однако в некоторой мере дает возможность очертить территорию, которую Мишель Серр назвал “между”, и где, по его мнению, действительно обретаются ангелы»[26].
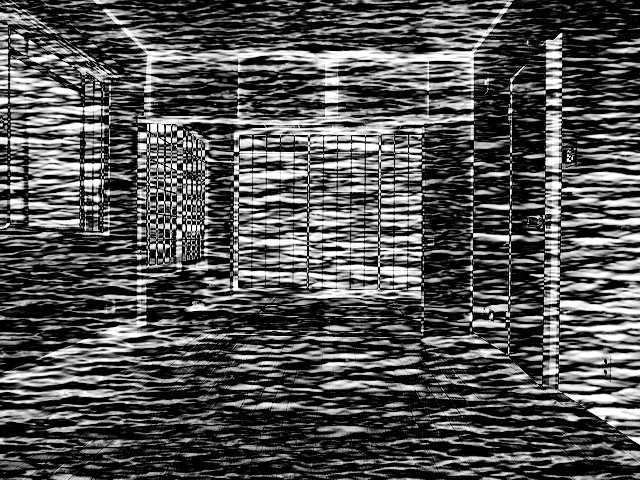
Аэропорты, вокзалы определяются французским антропологом Марком Оже, как «не-места», non-lieuх [28], именно в силу их пребывания между. АТД много писал о вокзалах, поездах и путешествиях, становящихся у него настоящими «метафорами» (переносом). Вот характерный пассаж из эссе «Расположение в домах и деревьях»: «С самого начала “тема железной дороги» в русской словесности становится магистральной: вишневые занавески, летящие вспять бледные селенья, потаенные слова, наслаждение станционными фонарями, волшебные превращения света в тень, ожидания в надежды, времен года в воспоминания, с жадной легкостью вовлекающихся тотчас в круговорот возбуждающих описаний. В связи с чем надлежит говорить не столько о «товарном обмене”, вызывающем необходимость умножения пунктов отправления, назначения и, следовательно, территориальных сдвигов, сколько об игре внутреннего и внешнего пространств, закрытого и открытого» (Б., с. 170—171).
Вокзал — это место разрушенной идентичности потому, что он всегда есть место метафоры, переноса, соединения, несовпадения: «Порой вокзал может явить себя Египтом, Дворцом дожей, всемирной выставкой венецианских разбитых вдребезги зеркал (вместе с шестым отражением огня), — продолжает АТД в том же эссе, — но бывает, неуловимо скользнет за плечом предрассветным безмолвием безлюдной станции, когда пурпурная полоса неба за лесом продевает тонкую нить рассвета сквозь каждую вещь, отстоящую себя, как если бы не имела причины и искомой самотождественности» (Б., с. 171). Вокзал это место атопии и ахронии, которыми страдает поэт. Любая вещь тут растягивается между внутренним и внешним, между преходящим и неизменным. «Как от всего этого избавиться? Прежде всего сокращая расстояние, дистанцию, до полного безразличия. <…> Железная дорога ничего не соединяет. Стало быть, и не содержит. Это знание приобретается сразу же, как только сладостная травма вокзала сворачивает циферблат в свиток. Таково первое ощущение. <…> Дорога, которая в итоге никуда не ведет, ничего ни с чем не связывает, — тебя вносит в наркотический круг чистого восхищения к изначальной неподвижности и там неуследимо переходишь (так мнилось) в иное измерение, в котором пять чувств никогда не сольются в столь насущное для Ф. Аквинского sensus communis» (Б., с. 172). Речь тут действительно идет о переходах из одного хроноса и топоса в другой, который возможен только в случайных сближениях складки. Но если переход из одной онтологии в другую ничего не сближает, то мы выходим за пределы всякой способности к репрезентации. Эдгар Морен так описывает эту парадоксальную ситуацию: «Наш мир, где все вещи разделены пространством и в пространстве, это одновременно мир, в котором нет разделения. Это говорит о том, что в нашем мире различия, есть нечто иное (за ним?), в чем нет различия. <…> Для меня фундаментальная идея сложности заключается не в том, что существо мира сложное, а не простое. А в том, что это существо непредставимо»[29]. И поэзия располагается в этой промежуточной зоне непредставимости.
Примечания
[1] Аркадий Драгомощенко. Безразличия. СПб., Борей—Арт, 2007, с. 39. Далее в тексте — Б.
[2] http://magazines.russ.ru/inostran/1997/11/serr—pr.html
[3] Там же.
[4] Hanjo Berressem. “Incerto Tempore Incertisque Locis”. The Logic of The Clinamen and the Birth of Physics. — In: Mapping Michel Serres. Edited by Niran Abbas. Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2005, p. 54.
[5] Я пытался раcпросить об этой загадочной записи друга Драгомощенко Михаила Борисова, но тот, к сожалению, не помнит о каких разговорах и каком «снимке Бога» идет речь. Совершенно то же самое АТД повторяет о себе в письме Маргарите Меклиной: «И вообще в моей голове, кажется, все давно уже произошло — и восстание рабов под предводительством Спартака, и хождение евреев за море, и войны, и любовь, и ужение рыбы на берегах Потомака, и Иван—Царевич с серым волком впридачу. Странная такая, скажем, голова. Вот поэтому никогда не удавалось мне нигде доучиться. Нет у меня ни диплома, ни веры. Не приобретено также и чувство меры. Ни в чем». —— Маргарита Меклина, Аркадий Драгомощенко. РОР3. «Lulu Press», 2009. Письмо 47. — http://www.lulu.com/shop/dragomoschenko—meklina/pop3/ebook/product—17458217.html?ppn=1;
В воспоминаниях о Парщикове он вновь возвращается к той же теме: «У меня плохо с хронологией, всегда было плохо. Все происходит сейчас или не происходило вовсе. С одной стороны, я совершенно уверен в собственном ощущении ни на минуту не прекращающей себя нашей обоюдной немой речи, а с другой — все как бы рассыпается на цветные пятна».—Аркадий Драгомощенко. «Верхние слои атмосферы». НЛО, № 98, 2009. — http://www.litkarta.ru/dossier/verh—sloi—atm/
[6] Аркадий Драгомощенко. В сторону публичности. — Русский журнал, 2 ноября 1999. www.russ.ru/ist_sovr/19991102_dragomos.html
[7] Роман Якобсон. Работы по поэтике. М., Прогресс, 1987, с. 365.
[8] Там же, с. 379.
[9] Драгомощенко упоминает эссе Якобсона в связи с исчезновением у Гельдерлина «всех шифтеров».—Б., с. 76.
[10] См. Эмиль Бенвенист. Отношение времени во французском глаголе. —— Э. Бенвенист. Общая лингвистика. М_. Прогресс, 1974, с. 270—284.
[11] Friedrich Hölderlin. Essays and Letters on Theory. Albany, SUNY Press, 1988, p. 63
[12] Роман Якобсон. Работы по поэтике, с. 372.
[13] Там же, с. 373.
[14] Аркадий Драгомощенко. О геометрии шестидесятых (60-е и шестидесятники: взгляд сквозь время). Искусство кино №5, май 2004, http://kinoart.ru/archive/2004/05/n5—article8
[15] Тут АТД явно отсылает к Лакану.
[16] Аркадий Драгомощенко. Тавтология. М., Новое литературное обозрение, 2011, с. 207-208. (Далее в тексте Т).
[17] Michel Serres. Le système de Leibniz et ses modèles mathématiques, t. 1, Etoiles. Paris, Presses universitaires de France, 1968, p. 285.
[18] Edgar Morin. La Méthode I. La Nature de la Nature. Paris, Seuil, 1977, p. 226.
[19] Michel Serres. The Birth of Physics. Manchester, Clinamen Press, 2000, pp. 148—149.
[20] Ibid., p. 154.
[21] Ibid.
[22] Michel Serres with Bruno Latour. Conversations on Science, Culture and Time. Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1995, p. 64.
[23] Мишель Серр. Точная и гуманитарная науки; случай Тернера. Анахронизм. Из лекции, прочитанной в USCD весной 1997 г. — .http://www.commentmag.ru/archive/14/11.htm
[24] См. об этом: Михаил Ямпольский. Скорость. — http://www.colta.ru/articles/literature/5464
[25] Michel Serres with Bruno Latour. Conversations on Science, Culture and Time, р. 65. Имеется в виду соннет Верлена:
«Соломинкой в хлеву надежда нам зажглась.
Бояться ли осы, своим полетом пьяной?…»
[26] Аркадий Драгомощенко. Париж стоит мухи. —— http://polit.ru/article/2009/05/23/ptibor/
[27] Michel Serres. Angels. A Modern Myth. Paris—New York, Flammarion, 1995, p. 8.
[28] Marc Augé. Non—Lieux , Introduction à une athropologie de la Surmodemité. Paris, Seuil, 1992.
[29] Edgar Morin. Introduction à la pensée complexe. Paris, Seuil, 2005, p. 137.
