Ландшафт и Человек

Задачей нашего исследования стало рассмотрение влияния пространства, топоса, исторической местности на человека и характер его взаимоотношений с окружающей действительностью. Взятый в качестве объекта исследования роман «2017» лауреата премии «Русский Букер» за 2006 год Ольги Славниковой, говорит не только о литературоцентричных интересах автора этой статьи, но и подразумевает рассмотрение оригинального взгляда на проблему географически локального бытования, отображённого в художественном пространстве современного романа-антиутопии.
Наличие влияния природно-географических факторов на человека отмечали уже Гиппократ и Страбон. «Гиппократ в сочинении “О воздухе, водах и местностях» проводил идею о влиянии географических условий и климата на особенности человеческого организма, свойства характера жителей и даже на общественный строй. Страбон как географ разделил весь мир на четырехугольники и в рамках одного из них поместил обитаемый мир, который состоял из Европы, Ливии и Азии. Любопытно суждение Страбона о том, что необитаемые страны не представляют для географа интереса.» [Тихомиров, 1998]. А в конце прошлого столетия древним авторам вторит Л. Гумилёв, утверждая, что «прямое и косвенное воздействие ландшафта на этнос не вызывает сомнений» [Гумилёв, 1989: 182]. Художественное осмысление влияние ландшафта на отдельного индивида и общество в целом, за редким исключением, остаётся прерогативой утопического дискурса: «Утопия» Томаса Мора, «Новая Атлантида» Френсиса Бэкона, «Остров» Олдоса Хаксли. Такое положение дел вполне закономерно, ибо моделирование «идеального государства” в земных координатах не в последнюю очередь зависит от его географической репрезентации. Последнее, однако, совсем не означает исчерпанности «ландшафтной темы» усилиями одного литературного направления, что и старается доказать наше исследование.
Итак, место действия романа-антиутопии «2017» — город Рифейск (производное от Рифейских гор — старое название Уральского хребта) и его окрестности. Совсем нетрудно установить, что этот условный город будущего (события романа отнесены к 2016 — 2017 гг.) является прототипом реального Екатеринбурга. В пользу данной версии говорит его географическое расположение на «старом растянутом шраме рифейских (уральских — И.Л.) гор» [Славникова, 2007: 53], а также упоминание о «памятнике двум основателям города, что стояли в каменном немецком платье (речь, конечно же, идёт о Василии Татищеве и Вильгельме де Геннине — И.Л.) » [Там же: 73].
Практически в самом начале романа автор наделяет описываемую им местность способностью «непосредственно влиять на умы» [Там же: 78], т.к. «для истинного рифейца земля — не почва, но камень. Здесь он (рифеец — И.Л) — обладатель глубинной в прямом и переносном смысле слова геологически обоснованной истины» [Там же: 79]. Фактически это означает то, что в иерархии ценностей рифейца-екатеринбуржца, живущего за счёт ископаемых ресурсов, дольнее стоит выше горнего. Он не выглядывает подсказку на небесах, но припадает ухом к земле, испрашивая помощи у её хтонических духов. Отсюда, по-видимому, произошла эндемичная мифология «рифейского хребта», населённая Огневушкой, Каменной Девкой, Великим Полозом и ставшая, позднее, основой уральских сказов П.П. Бажова.
Камень — это универсальная эманация рифейского бытия.

Даже характер рифейского мужчины содержит в себе «нечто твёрдое, какой-то кристаллический холодный наполнитель» [Там же: 74], который хоть и отличается прозрачностью, однако никогда не откроет истинную свою суть, о чём догадывается главный герой романа гранильщик Крылов. Камень и наполняет и оформляет бытие рифейца. Рифейские горы, по мнению автора, чересчур умышленны, картинны. Они лишены «простоватой честности» [Там же: 77] природы и кажутся подобием «классической оперной сцены, с её громоздкими декорациями и лицом к партеру расставленными хористами (соснами — И. Л.)» [Там же: 77]. Театральная метафора рифейского ландшафта наиболее полно актуализируется в финале романа, когда карнавальное празднование столетия октябрьской революции («ряженая революция») перерастает в массовые беспорядки на улицах города, что подтверждает замечание М.М. Бахтина о связи празднеств « с кризисными, переломными моментами в жизни природы, общества и человека» [Бахтин, 1949].
Мотив кризисности нашёл отражение и в миропонимании рифейского художника, отринувшего «сытую тяжесть мазка <…> реальности первого порядка (природы — И. Л.)» и бежавшего от неё, по выражению О. Славниковой, в «астралы модернизма» [Славникова, 2007: 81]. Этим художественным наблюдением автор фиксирует психологически обоснованную перемену взаимотношений между творцом и окружающим его действительным миром. В. Руднев в междисциплинарном исследовании «Прочь от реальности» объясняет подобное явление бессознательным переходом творца от «невротического дискурса» к « дискурсу психотическому» [Руднев, 2000: 274]. Первый стремится к творческому преображению реальности, второй — к её отрицанию и перенесению в область символического, что напрямую обусловлено разрушением традиции (в случае рифейского художника — с отказом творить в стиле соцреализма).
Рифейск осмысливается автором романа «2017» как столица Сибири, отразившая ментальные особенности Санкт-Петербурга и Москвы. Так ландшафтный портрет окраин Рифейска в некоторых деталях совпадает с описанием окрестностей Петербурга из стихотворения А. Блока «Незнакомка». Сюжет «Незнакомки» разворачивается весной (Блок датирует произведение 24-м апреля 1906-го г.). На это обстоятельство указывает «весенний и тлетворный дух», а также, упомянутые поэтом, заломленные котелки и скрипящие уключины. Первая встреча Крылова с Татьяной (мирская ипостась Хозяйки Медной Горы) приходится на пору цветения черёмухи; её облетевшие лепестки, словно кашу, Крылов «размазывает своими ботинками» [Славникова, 2007: 6], когда спешит на вокзал.

Теперь обратимся к месту действия. Определяющее значение у обоих авторов играет мотив железной дороги. Лирический герой Блока встречается с Незнакомкой в привокзальном буфете станции Озерки. На непосредственную близость железнодорожного полотна указывают шлагбаумы, за которыми гуляют «испытанные остряки». У Славниковой: « в привокзальной толпе <…> его (Крылова — И.Л.) внимание остановила невесомо одетая женщина» [Там же: 6]. Далее по тексту Крылов и Татьяна оказываются в ближайшем от вокзала кафе, где блоковские сонные лакеи, подчиняясь тирану моды, преображаются в «спортивную команду» [Там же: 16].
Праздная публика Блока расхаживает «среди канав», что указывает на её низменную, пресмыкающуюся природу. Герои романа «2017» случайно забредают на чуждую им «пересечённую местность», представляющую собой «свежие канавы с каменными ссадинами» и «старые серые откосы, сверкающие и скользкие от битого стекла» [Там же: 13]. Озёрный мотив «Незнакомки», наделённый поэтом профанными коннотациями (т.к. является местом пошлых обывательских забав), рифмуется с «глубоким, как желудок, парковым прудом» Рифейска, «где скапливалось и переваривалось всё <…> включая утопленников» [Там же: 13].
Л. Гумилёв рассматривает города «как самостоятельные ландшафтные регионы»; по его словам «на границах города и деревни всегда возникают субэтносы, чаще эфемерные, иногда стойкие, но всегда с оригинальными, неповторимыми стереотипами поведения, обязательными для их членов» [Гумилёв, 1989: 198].
Людям с устоявшимся «городским» мировоззрением (лирическому герою Блока и Крылову) эти «оригинальные стереотипы» кажутся всего лишь проявлением грубости нравов и варварским невежеством их выразителей. Странствуя по городской периферии, Крылов видит «угловатого мужика<…> с цельнокроенным черепом, покрытым чёрным ворсом и

Сходство ландшафта Рифейска и его окрестностей с петербургским можно обнаружить и вне блоковского интертекста. Вспомним, что для «истинного рифейца (как, впрочем, и для петербуржца) земля — не почва, но камень». А если глядеть на рифейскую местность «с высоты птичьего полёта, то не всегда понятно, чего перед тобою больше — воды или тверди: они окружены друг другом, друг другом поглощены» [Там же: 78]. Петербуржский дух города чувствует и администрация Рифейска, поэтому в центре строится «новодел, соединивший идею казармы и петровского Монплезира» [Там же: 73].
Описывая своеобразие натуры рифейца, Славникова отмечает, что душа его «обладает свойством прозрачности: всё в ней как будто видно насквозь, а внутрь проникнуть нельзя» [Там же: 74]. Примерно о том же проговаривается В. Белинский на страницах очерка «Петербург и Москва». Его «петербуржец всегда вежлив, часто даже любезен, но
Цинциннат Ц., по версии Н. Хрущёвой, является прообразом ленинградского поэта Осипа Мандельштама, погибшего в годы сталинских репрессий.
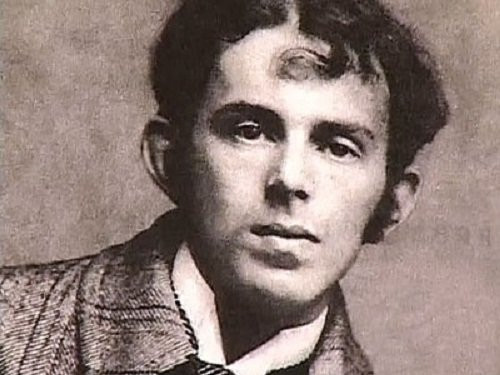
Аллюзии на творчество и судьбу опального поэта, уподобившего в одном из стихотворений начала 30-х годов прошлого столетия жизнь в Петербурге «сну в гробе», прослеживаются и в рифейском бытовании Крылова. Последний живёт в
И всё же, в отличие от построенного на «сваях и расчёте» [см. Белинский] Петербурга, состоящего в противоречивых — как типичный геохор (т.е. участок земной поверхности, однородный в своих экологических особенностях и отличающийся по этим особенностям от смежных участков) — отношениях с географией его местоположения, городская модель Рифейска-Екатеринбурга стремится к органическому единству с природным ландшафтом. Природное начало не подавляется, но скорее нормируется рамками архитектурного проекта города, поэтому сквозь трещину в асфальте виднеется кусочек «коренной» земли, « её характерной, как бы присоленной пестроты с вкраплениями кварца и гранита, похожий на элемент узора рептилии» [Славникова, 2007: 156]. Петербург явился миру как практически законченное целое, как самодостаточное, замкнутое в своём замысле, творение человеческого ума. У него нет предыстории. Он, вознесшийся из «тьмы лесов и топи блат», сам становится точкой исторического отсчёта, преодолевая мифическую цикличность «чухонской» природы. «Закоченел и обездвижел Петербург. Самопровозглашённый идеал не может не схватиться, выбрав только время. <… > Вот уже третий век он размечает по линейке, режет по живому и обставляет себялюбивыми шедеврами древние города» [Рахматулин,2009: 19] — замечает автор книги « Две Москвы, или Метафизика столицы» Рустам Рахматуллин.
Иначе у
Так или иначе, «женская» семантика топонима во многом определила своеобразие характера этого уральского города и людей его населяющих (вспомним о «земной истине» рифейцев).
Мужская бескомпромиссность Петербурга по отношению к окружающей его природе в случае Екатеринбурга оборачивается попыткой «договориться» с ней.
В результате архитектура города, его искусственные (спланированные) рельефы, а также его инфраструктурные особенности становятся частью природного ландшафта, подсознательно повторяя характерные черты последнего: « последствия искажений <…> сказывались на структуре города, как реального, так и изображённого, сообщая улицам странные вывихи и заставляя неоправданно вилять, срываясь рогами с проводов, городские неуклюжие троллейбусы» [Там же: 33]. Похожие наблюдения можно встретить у В.Г. Белинского в очерке «Петербург и Москва», где критик живописует удивление коренного петербуржца, «привыкшего к прямым линиям и углам» [См. Белинский] при взгляде на беспечную кривизну московского плана.
Особый «московский» отпечаток виден во многих аспектах бытия Рифейска — четырёхмиллионного мегаполиса, располагающего метро, крупным Экономическим Центром, дорогими ресторанами, «где каждое блюдо стоит как покупка в ювелирном магазине» [Славникова, 2007: 172]. Здесь, как и в любой столице, наличествует светская жизнь с персонажами для «липких журнальчиков, еженедельно питающих публику новыми сплетнями» [Там же: 26]. Четыре пятых населения этого «вавилонского города составляют приезжие, беженцы, освободившиеся зеки…» [Там же: 72]. Есть своя чиновничья элита, которой город обменивается с «недремлющей Москвой» [Там же: 72].
Не случайно — в виду женского подтекста города — гением места, своеобразной душой Рифейска у О. Славниковой становится бизнес-леди Тамара (жена Крылова), в чьих «сильных и мягких жилах смешались татарская, русская, польская кровь с неустановленной — и незаконной — добавкой чего-то турецкого или иранского» [Там же: 169].

Прообразом Тамары — этого «египетского божества с высоким, плечистым человеческим телом и
Можно сказать, что Тамара обладает двойной гендерной идентичностью. Она создаёт представление о гармонии между женским и мужским, Востоком и Западом, жизнью и смертью.
Именно поэтому её мирское крушение выражает собой нарушение космического порядка, что приводит к народным волнениям не только в масштабах Рифейска, но и всей страны. Поэтому, несмотря на более или менее удачную попытку создателей Рифейска примирить в его образе рукотворное и естественное, конфликт меж этими антагонистами неизбежен. Природа сознаёт относительность предоставленной ей свободы и мстит своим поработителям. Одним из первых в нашей литературе драматизм этой коллизию обнажил А.С. Пушкин в поэме «Медный всадник». Семантически насыщенная «петербуржская повесть», по мнению исследователя А. Перзеке, обладает характерными признаками антиутопии и главный из них — развенчание мифа об идеальности пространства Петрополя. Вот что в связи с этим замечает исследователь: «главное событие повести — бунт стихии, который И. Шайтанов обозначает как бунт российского пространства. Власть, обуянная перестройкой мира во имя утопической идеи, проявляет деспотизм и жестокость по отношению к жизненной стихии, отчего и возникает бунт — этот смысл отчетливо присутствует в тексте. <… > Так Пушкин создает образ невиданного насилия над «российским пространством». Этому служит и образ закованной в гранит реки, воплощающий бинарную оппозицию воды и камня» [Перзеке, 2008]
Роль вышедшей из брегов Невы в художественном пространстве романе «2017» играет Хозяйка Медной Горы. Она губит хитников (искателей драгоценных камней), калечит судьбу Крылова и, в конечном счёте, становится причиной новой (пусть и «ряженой») революции. Женское и, одновременно, азиатское начало русской революции 1917 года подмечает Борис Пастернак в романе «Спекторский», основанном, в частности, на впечатлениях от уральского путешествия поэта 1915-1916 гг.:
Разбив окно ударом каблука
Она (женская эманация революционной стихии — И.Л.)
перелетает в руки черни
И на её руках за облака.
…………………………………
И подбегали к женщине в черкеске,
Оглядывавшей эту ширь (метафора российского пространства
— И.Л.) с седла.
Пред ней, за ней обходом в тыл и с флангов,
Курясь ползла гражданская война,
И ты б узнал в наезднице беглянку,
Что бросилась из твоего окна…
Тема революции призывает нас вновь обратиться к символическим параллелям между двумя отпрысками урбанистической политики Петра. Возникновение этих городов ознаменовало не только начало имперской программы России, но и предопределило падение «священного русского царства».
В дышащем «осенним хладом» Петрограде происходит переворот и свержение Романовых, в Екатеринбурге — оплоте большевистских организаций Урала времён гражданской войны — гибель царской семьи.
«Ужо тебе!» безумного (юродивого!) Евгения в данном контексте звучит как пророческое предупреждение о грядущем апокалипсисе.
Семантический пласт бажовского сказа возникает в романе О. Славниковой отнюдь не случайно. Автор вполне сознательно отправляет нас к истокам проблемы взаимоотношений человека и уральской природы (уральского ландшафта), обнаруживая тем самым её историческую неизбывность. Гранильщик Крылов, прообразом коего является Данила Мастер, до некоторой степени повторяет судьбу своего мифологического предшественника. Таким образом, можно говорить об архетипическом сюжете, о некой «кармической» программе, изначально заложенной в ментальный проект рифейской земли.
Помимо всех названных выше, историко-литературный хронотоп Рифейска-Екатеринбурга содержит «берлинскую цитату». Автор населяет художественное пространство романа «родной как собственная тень» [Набоков, 1930] фигурой Соглядатая, имея ввиду одноимённую повесть, уже упомянутого нами, В. Набокова, чей сюжет развивается на улицах, в магазинах и съёмных гостиничных номерах немецкой столицы 20-х годов прошедшего столетия. Здесь уместно напомнить, что первый генеральный план Екатеринбурга соответствовал лучшим образцам фортификационного искусства Германии, Нидерландов и Франции.
Оставляя за пределами данного исследования вопрос о литературных достоинствах романа О. Славниковой, мы хотим подчеркнуть, что в художественном пространстве «2017» автору удаётся вплотную подойти к
Литература
1.Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. http:// www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html.
2.Белинский В. Физиология Петербурга: Петербург и Москва. М.: Советская Россия, 1984.
3.Блок А. Незнакомка // Библиотека Максима Мошкова. http://az.lib.ru/b/blok_a_a/.
4.Гумилёв Л. Этногенез и биосфера земли. М.: АЙРИС- пресс, 2007.
5.Набоков В. Приглашение на казнь // Библиотека Максима Мошкова. http://www.lib.ru/NABOKOW/.
6.Набоков В. Соглядатай // Библиотека Максима Мошкова. http://www.lib.ru/NABOKOW/.
7.Перзеке А. Поэтика антиутопии в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник» как русская «весть миру»: взгляд из наших дней // Вопросы литературы. 2008. №3. http://magazines.russ.ru/voplit/2008/3/pe12-pr.html.
8.Пастернак Б. Спекторский // Избранные сочинения. М.: Рипол Классик, 2002.
9.Рахматулин Р. Две Москвы, или Метафизика столицы. М.: АСТ, 2009.
10.Руднев В. Прочь от реальности. М.: Аграф, 2000.
11.Славникова О. 2017. М.: Вагриус, 2007.
12.Тихонравов Ю. Начала геополитики // Русский гуманитарный интернет-университет. http://www.humanities.edu.ru/db/msg/86254.
13.Топоров В. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. — М.: Издательская группа Прогресс — Культура, 1995.
14.Хрущёва Н. В гостях у Набокова. М.: Время, 2008.
