Реквием по хипстеру
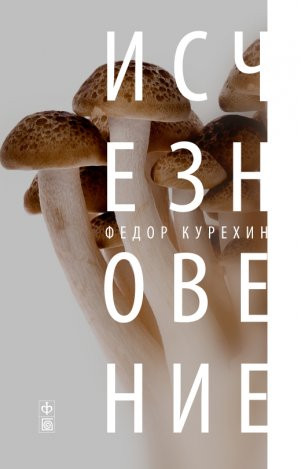
…Наверное, многие смотрели фильм “О чем говорят мужчины” и примерно знают, о чем они же они все–таки говорят. В основном, о “Пинк Флойд”, если помните, и прочем кризисе средней руки. А вот о чем, как и когда говорят и думают наши юноши и подростки — об этом, ведают, наверное, немногие. Из романа «Исчезновение» Федора Курёхина, об этом можно, наконец, узнать.
Фамилия начинающего автора — и это понятно любому, кто помнит о легендарной “Поп-механике» — уже код и высокая планка, и в данном случае он высоко несет и держит ее на протяжении всего повествования. А это, как оказывается, нелегко в случае с романом, где, собственно, ничего особенного не происходит. Заявленная «легенда о конце эпохи хипстерства» на деле оборачивается своеобразным роуд-муви «красивого двадцатидвухлетнего» фрика по волнам его памяти, напрочь отшибленной пьянками-гулянками и, как ни странно, Джойсом. (У героя раритетное издание «Улисса», которое он использует в качестве биты). И в этом путешествии упомянутую «фамильную» планку, поддерживает, во-первых, довольно грамотный саундтрек с набором далеко не модных, но элитарных треков, а
Все вышеперечисленное любителям кризиса и «Пинк Флойд» точно не понравится. Им можно пояснить, что это что-то вроде Ильи Стогова, у которого важно не так действие — надо встать пойти найти купить выпить — а репортажность именно “внутренних” событий. Также сие, наверное, будет интересно историкам культуры — какие гаджеты были, какие газеты продавались в метро — да еще, если читать сейчас, а не через десять лет, когда автор романа станет, например, директором дельфинария или знаменитым автогонщиком (то есть, забудет о литературе, и правильно сделает), то по этому тексту современники смогут, как по компасу, сравнивать цены и привычки в рамках конкретного поколения. Какого именно? Конечно же хипстеров, о закате которых якобы повествует этот роман.
Короче, людям нравится читать такие книжки. Это как бы еще не гламурный "Casual” Оксаны Робски, но уже и не публицистический "Духless” Сергея Минаева. О модных вещах если и пишется, то без особого придыхания, как в первом случае, и без пошловатого морализаторства, как, соответсвенно, во втором. (Обнищавший на полчаса герой, если угодно, вообще распродает свои дизайнерские костюмы). Если же кому-то понадобятся зарубежные стандарты, то проза Курёхина — это вроде раннего Дугласа Коупленда, помноженного на обязательную в “молодежной” среде брутальность Ирвина Уэлша. До Бегбедера, которым иногда мнит себя автор, впрочем, гораздо ближе, и герой романа регулярно сообщает о том, как он «надел зеленые спортивные брюки и розовую рубашку с узором из множества голов Тома Йорка“, но этой самой, как ее, глубины, что ли, не хватает. А глубина в российской прозе — это как раз упомянутое выше морализаторство и публицистика
Итак, знакомьтесь — главный герой романа Марк Марк-Флюм, страдающий от избытка интеллекта модник, эстет и, как бы это сказать, чтобы поняли и поюбили престарелые меломаны — явно онегинский типаж с вытатуированным на руке куплетом из песни «Isolation» группы Joy Division. Плюс его отсутствуюющие в
Среда обитания — ирландский паб, бруклинский бар и бельгийская кофейня. Из меню — совиный стейк и
«Захожу в ВКонтакте, смотрю фотки девушки,
пробегаю по нескольким несмешным пабликам,
затем считаю, сколько лайков набрал мой пост о сериале «Game of Thrones»,
затем перехожу на один из русских музыкальных блогов,
затем лезу на Pitchfork и думаю, какой альбом скачать,
затем лезу в Твиттер, там отписываюсь от
которые своими бесполезными и безмозглыми твиттами испоганили ленту.
Потом лезу на Фейсбук, но там пусто.
Затем листаю Furfur и Look At Me.
Схожу с ума от новой статьи на проекте W-O-S.
Читаю новости на The Village.
Смотрю лекцию на TED».
Где-то на середине романа происходит его самоубийство: “— Ты — роман? Тебе сколько лет-то? Чтобы романы писать?” Да и вообще, критиковать “Исчезновение” Федора Курёхина сложно. Хотя бы потому, что автор устами героя делает это за тебя почти на каждой странице. Ход, конечно, хитрый, но верится с трудом — в двадцать лет, как правило, себя не осуждаешь, а если это делает автор, маскируясь под героя, то это его личные жанровые проблемы. Короче, в жизни так не дерутся, а уж ругаются так только родители. «Избалованный мудак, который тянет из всех все соки», — в сердцах может выкрикнуть только мама, пускай даже продвинутая, из Парижа. А уж воскликнуть «К черту вас, избалованные городские сопляки. Сидите в убогих барах с дурацкими названиями, попивая гейские коктейли, говоря о Жижеке и причитая о бренности хипстерского бытия» может какой-нибудь папа-выпускник-мехмата и уж никак не
Иногда сей поток сознания — "все мои мысли — это поток огромного кала шалфейного тетерева”, утверждает герой — так вот, достигая накала берроузовских страстей, сей поток начинает напоминать пресловутый метод нарезки, любимый битниками, но к винегрету заимствований не скатывается. Просто так действительно говорят в данной среде — то ли под кайфом, то ли перед монитором. И неудивительно, что одна умная девушка от лица автора, опять-таки, критикует несчастного героя: “Зная тебя, осмелюсь предположить, что твой роман, наверное, это триста страниц о том, почему я не такой как все и как мне одиноко в этом мире, плюс размытые персонажи, хреновые декорации, пресный и неграмотный язык, и конечно — унылый закос под Сэлинджера”.
Словом, интеллект в пьяных руках — это страшно. Спасает, как ни странно, город и его традиции. Ну, петербургский текст, то есть. Ведь Питер — это город, в котором “каждый думает, как бы не обезуметь от духовности”. Поэтому наш юный герой, кроме всего прочего, знает наизусть фильмы Годара и Трюффо, читает Блока, а со сцены на концерте кричит не «я не вижу ваших рук», а «экзистенциальная грусть нынче мейнстрим» и полагает, что петербургские бары слишком похожи на бары в «Заводном Апельсине». Действительно, здесь дверь вам открывает бородатый парень в рейтузах, из квартиры слышны The Smiths и доносится фраза: “Это же чисто по Джойсу, ёпт”, а девушки известны тем, что “однажды одна, будучи на вписке, сильно нажралась и лишилась девственности с фанатом Паваротти”, а другая частенько “ведет разговор о Лакане с вешалкой”. В основном же, конечно, процветает махровый литературоцентризм, и то как герой романа раз пятьдесят за весь роман не решается оставить номер своего телефона официантке, а на
Итак, что же
Фёдор Курёхин. Исчезновение. — Спб.: Петроглиф, 2014. — 319 с.
