Девальвация подлинности: история одного разочарования
Алексей Соловьев совместно с Иваном Кудряшовым рассказывают о непростой судьбе подлинности как философской категории, которая была важна для Кьеркегора и Хайдеггера, критиковалась Адорно, а впоследствии стала расхожим штампом в
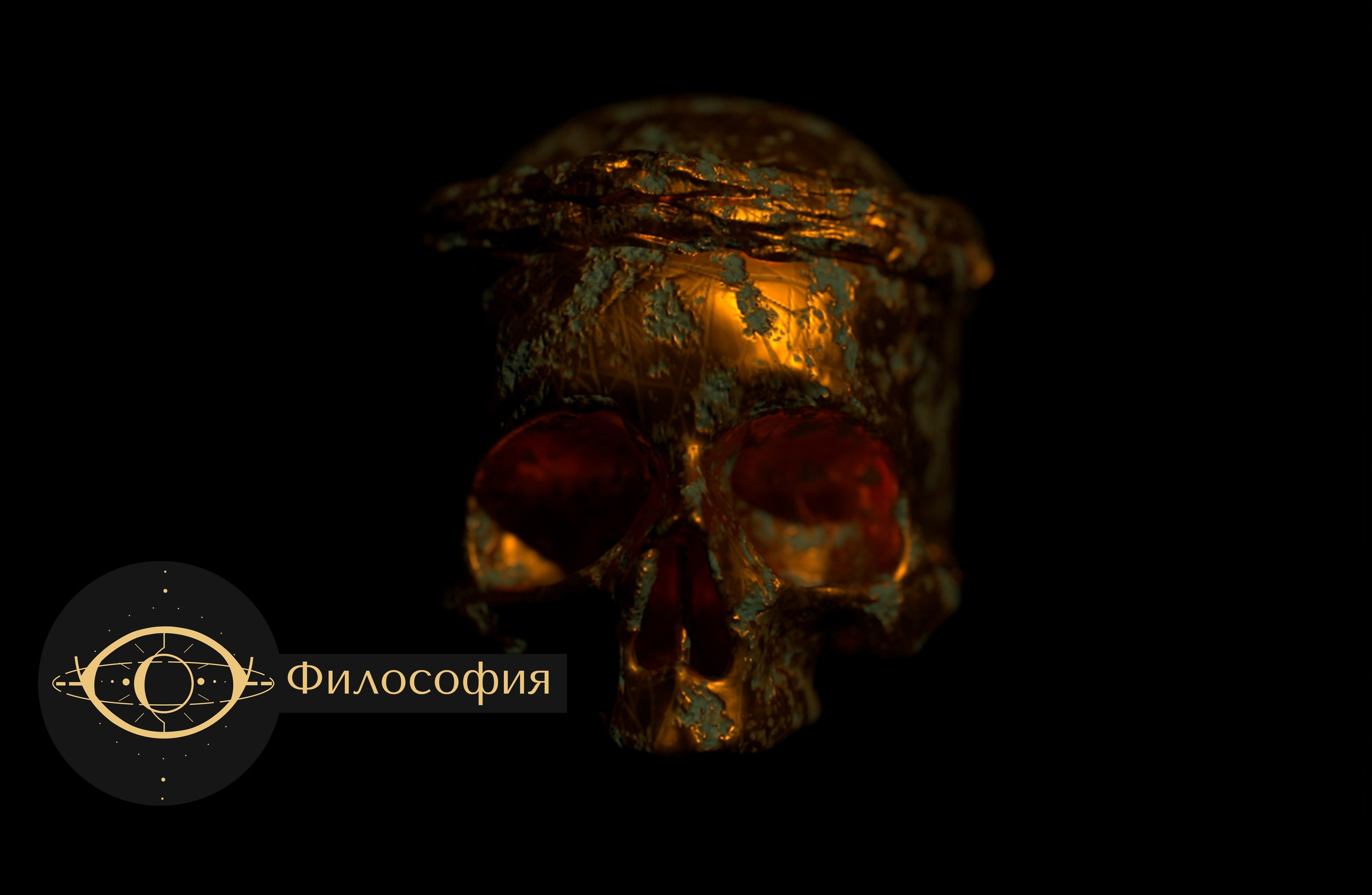
Всем, кто хотя бы немного знаком с творчеством Мартина Хайдеггера и его главным трудом «Бытие и время», наверняка известна заглавная оппозиция категорий его онтологии: «подлинное» / «неподлинное» существование. Во всех смыслах смертельная битва между Dasein и dasman, разворачивающаяся на страницах книги, держит в напряжении и очаровывает многих на протяжении уже почти ста лет с момента её написания. Да и в целом рассуждения об уникальном существовании, не схватываемом слишком общими дефинициями и с трудом удерживаемом на кончике мысли — стали визитной карточкой целой плеяды мыслителей, которых называют экзистенциалистами.
Однако очарованию романтического флёра интеллектуальных построений Хайдеггера и других подверглись не все. За своеобразную точку отсчета в разоблачении можно принять текст Теодора Адорно «Жаргон подлинности. О немецкой идеологии». Эта книга наводит на ряд идей, благодаря которым нам захотелось посмотреть на тему «подлинного»/ «неподлинного» в его прошлом и настоящем. От тематизации в творчестве экзистенциалистов до современной эксплуатации подобной лексики в практиках себя. В том, что Адорно называл врастанием «в ту самую анонимность обменного общества, против которой направлен пафос “Бытия и времени”» [1] что выражается, например, в слогане «будь собой, не дай себе засохнуть» [2].
Тематизация «подлинного существования»
Романтизм зародился в конце XVIII века и, найдя опору в субъективном идеализме Фихте, стал активно развивать идею индивидуально ориентированного творческого бытия личности, стремящейся к противостоянию нарастающей тотальности ratio в европейской культуре. Романтики делали акцент на
Однако любопытно отметить, что тема подлинности или на греческий манер аутентичности первоначально касалась не вопроса личности человека, а текстов и искусства. Становление герменевтики и затем наук на основе понимания (науки о Духе) ставило вопрос о корректности изложения и перевода, о правдоподобии контекста звучания авторского и народного искусства. Впрочем, начиная с Гердера и братьев Гримм, к рассуждениям об аутентичности произведений культуры регулярно примешивался националистический элемент — неуловимый, сверхзначимый «фолькгайст» (Volksgeist), Дух народа.
Сдвиг риторики о подлинном от культуры и психологии народов к уникальности индивида в целом был неизбежен. Своеобразными вдохновителями этого перехода можно признать Сёрена Кьеркегора, но также и Новалиса (с его философом-магом), Штирнера, (с его Единственным), Ницше (с его психологической аналитикой личности и Сверхчеловеком) и многих других. Обращение к субъективному опыту, понятому как существующему для-себя (подлинному, экзистенциальному, самоценному) в итоге обрело узнаваемые специфические черты аутентичного бытия Dasein в хайдеггеровском манифесте «Бытие и время».
Сложно отрицать, что Хайдеггер использует лексику Кьеркегора, хотя вопрос о том, был ли последний предтечей экзистенциализма до сих пор открыт (уж слишком сложно игнорировать целый ряд принципиальных расхождений). Как отмечает Отто Больнов в мысли датского мыслителя мы можем обратить внимание на фигуру «существующего мыслителя». Он противостоит тому типу абстрактно мыслящего философа, который олицетворяет Гегель и вся традиция метафизического философствования с его рациональной ориентацией мысли.
Обострённое ощущение своей экзистенции, нужды в проживании «экзистенциального переживания» и сам нерв субъективистски ориентированной рефлексии Кьеркегора станет важной отправной точкой для экзистенциализма ХХ века. Впрочем, «существующий мыслитель» — это позиция, которую нельзя просто перенести на других. Когда же Хайдеггер рассуждает о «подлинном существовании» или Сартр говорит о «нонконформизме существования», то в этих формулировках ощутима универсалистская претензия говорить о всех и каждом. По Кьеркегору же лишь одна вещь тотальна для всех людей — отчаяние. При этом любая из этих позиций позволяет «вспомнить» собственное бытие: ощущение одиночества, утраты и обретения смысла, страха смерти и удушающей тревоги. Всё это позволяет занять критическую дистанцию к миру и попытаться отделить свою уникальную экзистенцию от социальной поглощающей анонимности. Именно этот сюжет станет формировать дискурс подлинности в дальнейшем.
Вместо вопроса об исторической судьбе абсолютного Духа или классовой борьбы за диктатуру пролетариата, в центре внимания оказывается одинокий мыслитель с надрывом погруженный в сложные хитросплетения личных переживаний, мыслей и чувств. И самым важным аспектом специфической позиции «экзистенциального мыслителя» становится признание «немощи разума» в постижении сложности и противоречивости коллизий индивидуального существования. Этот поворот уводит философию в иной контекст, отличный от привычных ассоциаций с рациональным осмыслением различных тем. «Существующий мыслитель» Кьеркегора ищет утешения в иррациональном опыте веры, отказывая рациональным потугам классической философии в решении тех сложных задач, которые ставит сама индивидуальная экзистенция. Попытка нащупать регистры и ракурсы, в которых сможет состояться «подлинное существование», отсылает к выходу за рамки привычных философских категорий и вопрошаний. Здесь открывается поле персональной существования, похожее на движение Сталкера Тарковского по «зоне»…
Мартин Хайдеггер: «подлинное существование» против «людей» (dasman)
Тема «подлинного существования» красной нитью проходит сквозь главный труд Хайдеггера «Бытие и время» [3]. Этот текст можно назвать «манифестом подлинности», где дуализм между аутентичным существованием/анонимным, «растворённым в людях» задаёт основную фабулу хайдеггеровской экзистенциальной драматургии. Несмотря на отказ самого Хайдеггера признать причастность к философскому течению экзистенциализма, сложно отрицать его обращение к тематике подлинного, размещенной в пространстве по ту сторону классической рационально определенной сущности. Онтологический горизонт срастается с экзистенциальным («Dasein экзистирует фактично» [SZ, § 39]), а почти идентичные дуализмы собственного и несобственного мы найдём у любого «коллеги» по экзистенциализму от Ясперса и Габриэля Марселя до Камю и Сартра.
Итак, немецкий мыслитель устанавливает экзистенциальную развилку между «двумя модусами существования». Один получает статус подлинного, а другой неподлинного. Оба формируют две большие перспективы того, как именно человек может прожить свою частную жизнь. Двигаясь методом от противного, вслед за Хайдеггером, нужно разобраться с темой «неподлинности», чтобы высветить то, что впоследствии автор предлагает преодолеть. Преодолеть дабы обрести то самое аутентичное, настоящее, своё собственное «подлинное существование».
По тексту «Бытия и времени» рассеяны сентенции о том, что «неподлинное» ближайшим образом всегда уже задаёт рамку для существования человека и оно изначально присутствует повседневной жизни каждого:
Неподлинность означает… не
Это означает, что человек может переживать «отчуждение» от своего собственного существования, проживая его как персонаж мультфильм «Раскол», в которого попал метеорит и он живёт на расстоянии 91 см от самого себя. Ну или попросту превращать свою жизнь, свои чувства, желания, мысли в чуждый объект, например, в попытках контролировать их ради выдуманного или навязанного образа. Как это делают люди, захваченные религией успешности, что не позволяют себе даже грустить или жалеть себя.
В 27-м параграфе мы также видим феноменологический экскурс в повседневность, где царит и постоянно утверждается «власть неподлинного». Именно
Присутствие [4] как повседневное бытие с другими оказывается на посылках у других. Не оно само есть, другие отняли у него бытие. Прихоть других распоряжается повседневными бытийными возможностями присутствия… «Другие», которых называют так, чтобы скрыть свою сущностную принадлежность к ним, суть те, кто в повседневном бытии с другими ближайше и чаще всего «присутствуют». Их кто не этот и не тот, не сам человек и не некоторые и не сумма всех. «Кто» тут неизвестного рода, люди [SZ, § 27].
Быть «на посылках у других», упрочивать их власть, предоставлять им возможность распоряжаться своими бытийными возможностями, устанавливая рамки что «можно и должно сметь» — это фундаментальная характеристика «неподлинного» бытийного модуса. Яркой иллюстрацией может быть эпизод из фильма Ингмара Бергмана «Персона», где медсестра не может заснуть и словно мантру произносит наставления самой себе. Они представляют собой набор основных социальных ожиданий, упакованных в такие фразы «как выйду замуж за Карла Генриха, у нас будут дети, у меня хорошая работа…». Важно отметить, что героиня в своём монологе настаивает на том, что это её личное понимание и «это уже внутри меня и нечего размышлять». Тем самым иллюстрируя ту самую высвеченную Хайдеггером ситуацию, при которой:
В этой незаметности и неустановимости люди развертывают свою собственную диктатуру. Мы наслаждаемся и веселимся, как люди веселятся; мы читаем, смотрим и судим о литературе и искусстве, как люди смотрят и судят; но мы и отшатываемся от «толпы», как люди отшатываются; мы находим «возмутительным», что люди находят возмутительным. Люди, которые не суть нечто определенное и которые суть все, хотя не как сумма, предписывают повседневности способ быть [SZ, § 27].
Утверждая свою анонимную диктатуру, «люди» следят за всяким выбивающимся исключением и уравнивают бытийные возможности человеческого существования. Поэтому основной чертой «неподлинного существования» является некая унифицирующая усреднённость: «быть как все» и не высовываться. Отказ от решительной готовности жить свою собственную жизнь выражается в порабощении анонимностью «людей» (dasman), задающих рамку внутренней самоцензуре и регламентирующей повседневное поведение всех и каждого.
Эта безликая всеприсутствующая анонимность «людей» размечает траектории толкования мира, ценностей, регламентирует порядок развлечений, интересов и траекторий профессионального роста. При этом происходит нивелировка и ускользает возможность иного, того подлинно собственного, которое, по мысли Хайдеггера, выходит в «просвет экзистенции» из дымовой завесы «диктатуры других». Движение к подлинному существованию отличается «наибольшей высотой и полнотой, потому что «жизнь в своем предельном подъеме произрастает на почве обычной и естественной жизни» [SZ, § 27]. Стремление к исключительности и героизация подлинного существования противопоставляется обычному мещанству «неподлинного существования», затерянного в безликой бездумности и конформизме «людей».
Критика «жаргона подлинности» у Теодора Адорно
Разворачиваемая в «Бытии и времени» борьба за «подлинное существование» была прочитана по разному. У неё были и остаются ярые поклонники (тема трансгрессии у Фуко в некотором смысле отсылает к опыту выхода «за пределы обычного существования»), но были и не менее ревностные критики, усмотревшие в «жаргоне подлинности» исключительно правую политическую риторику. Пьер Бурдьё написал большую работу «Политическая онтология Мартина Хайдеггера», где рассуждал о политическом содержании «Бытия и времени». А Теодор Адорно в «Жаргоне подлинности. О немецкой идеологии» предпринял попытку анализа истоков такого стиля мысли.
На заре христианской эпохи появились гностические секты, адепты которых подчёркивали особый «тайный» характер знания, которым они обладали. Адорно уличает любителей «жаргона подлинности» в
Один центр, предназначенный для проведения международных дискуссий самой разной направленности, именует себя «Дом встреч»; видимый глазами дом, построенный на земле, превратился в священное место благодаря мероприятиям, имеющим над дискуссиями то преимущество, что в них участвуют живые экзистирующие люди, которые, впрочем, могут и просто дискутировать, а кроме того, пока они с собой не покончили, едва ли способны обойтись без экзистирования [5].
Несмотря на утрированный характер описания, Адорно задаёт вектор вопрошания о наличии/отсутствии принципиальной разницы между «подлинным/неподлинным» существованием. Выделенная у Хайдеггера манера описывать настоящее экзистенциальное переживание со всеми специфическими сопутствующими ему элементами («экзистенциальный кризис», особое состояние скуки, страха, ужаса или смыслового вакуума) парадоксальным образом приводит к девальвации подлинности. Эта причудливая и фрустрирующая метаморфоза неожиданным образом приводит к той самой усреднённой анонимности «людей», когда превращается в мимикрирующую под нечто эксклюзивное, но тиражируемую риторику «жаргона подлинности». И получается «хотели как лучше, а получилось как всегда».
Несмотря на лингвистические коллизии в контексте выделения и утраты особых регистров высказывания по теме «подлинного», остаётся открытым вопрос: что же тогда вся эта экзистенциальная напряженность вокруг проживающего своё персональное существование субъекта оказывается фикцией? И весь этот эзотерический тон был лишь буйством разыгравшегося воображения ряда мыслителей, возжелавших придать особую значимость определённому классу переживаний и субъективных состояний дабы спасти особенное от дегуманизирующего опустошения массовой культуры с её тотальной усреднённостью и унификацией? Адорно считает, что все эти пафосные декорации создавались много лет лишь для того, чтобы в итоге оформиться в немецкую националистическую идеологию с её культом арийского человека и пренебрежительным (мягко говоря) отношением к представителям других рас и национальных идентичностей.
Любопытно, что он не обратил внимание на возможность классового объяснения столь укоренённой у немецких мыслителей тенденции противопоставления подлинности и неподлинности. Однако и жаргон, и сам жанр критики усредненного бюргера — во многом произрастают из особого положения университетского профессора и шире интеллектуала, особенно в немецком обществе. Как отмечает Фриц Рингер (в работе «Закат немецких мандаринов. Академическое сообщество в Германии, 1890-1933») эта узкая прослойка работников умственного труда обладала огромными привилегиями в силу чего не только была оторвана от реальной жизни простых людей, но и представляла эту жизнь лишь в оптике абстрактных теорий. Хайдеггеровские «люди» по сути намного раньше появились в теориях немецких социологов и гуманитариев: они изначально представлялись объектом исследования или предметом мысли, но не живыми людьми, достойными понимания и сочувствия. Впрочем, и сам Теодор — во многом продукт той системы.
Как бы то ни было, испепеляющая критика «жаргона подлинности» у Адорно, направленная на экзистенциалистов и их попытку спасти хрупкий мир «подлинного существования», утверждает ещё одну значимую вещь — растворение подлинного в прозаичности символического обмена на службе у
Дискурсивные приёмы и техники «культа подлинности» вырождаются и активно тиражируются. Адорно приводит разбор проповеди некоего христианского пастора по телевидению. Пастор по мнению журналистов «высказывал себя из себя самого в экзистенциальной манере», благодаря чему «излучал полноту присутствия и достоверности». В итоге, эксплуатация «жаргона подлинности» находит воплощение в «радиорекламе подлинного». Всё это приводит к тому, что экзистенциальные нарративы, так ревностно сторонившиеся всего профанного и обыденного, парадоксальным образом врастают в серую «анонимность обменного общества», против которого направлен пафос «Бытия и времени».
«Формула аутентичности» в эпоху «текучей современности»
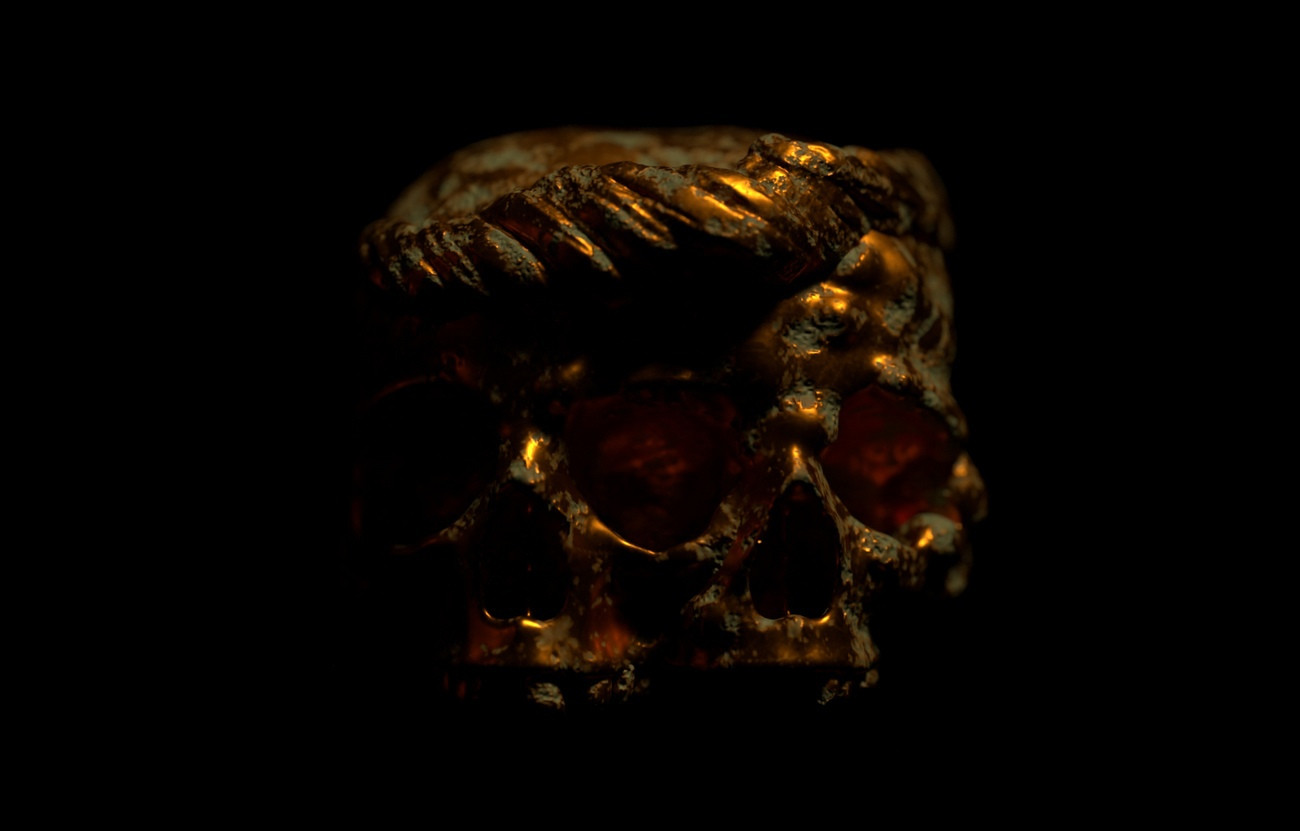
В статье «Деконструкция продающего текста» уже рассматривался вопрос подмены субъекта жизненной ценностью клиентского опыта. «Упразднённый индивид», как выразился Бернар Стиглер, замещается и конституируется потоками производства и потребления, точкой пересечения которых и является в дальнейшем. В этом контексте крайне любопытен массовый интерес к тематике «подлинного существования», а точнее новых ипостасей «жаргона подлинности» на массовом рынке. В конечном счете переход от всякой эзотеричности и выделенности к хорошо продаваемой «эксклюзивности» в нашу эпоху почти незаметен. Но могло ли быть иначе в обществе, где на фоне рыночных отношений происходит бесконечная мутация ценностей индивидуализма?
В данном контексте можно выделить несколько траекторий того, как современное общество потребления формирует траектории и стили жизни, в которых лейтмотивом становится аутентичность и тематика «быть собой».
Макдональдизация «подлинности» или «бунт на продажу»
60-е гг. ХХ века стали временем расцвета контркультуры. Рок-н-ролл, движение хиппи, новые киники панк-движения, антипсихиатрия, Красный май, сексуальная революция. Все эти опыты освобождения, попытки вырваться
Как отмечает Джордж Ритцер, общество попросту движется в направлении рационализации, становясь сетью структур, из которых нельзя вырваться, потому что всякий аспект человеческого поведения уже просчитан, измерен и поставлен под контроль. Попытки отдельного человека быть незаурядной личностью, привлекать других своей индивидуальностью и стилем, даже просто стремление реализовать себя на
Self-help литература и «новая аутентичность»
Наверняка и вам доводилось встречать книги, что без лишней сложности обещают вам вас самого, например, как в названии «Аутентичность. Как быть собой». В ней вы найдёте незатейлевые рекомендации и практические советы, в том числе ни много ни мало «формулу аутентичности». Существуют и более витиеватые попытки спасти «аутентичное» — например, в лице профессора философии Гордона Морино, автора «Руководства по выживанию экзистенциалиста». В ней он предлагает читателям инструменты по самопомощи на базе произведений Кьеркегора иже с ним. Благая весть о подлинности постепенно проникает в нарративные практики бизнес-консультантов. В литературе вроде Harvard Business Review пишут о моде на понятие «подлинности» среди руководителей организаций. О подлинности и стремлению к аутентичности пишут в модных журналах и блогах. Так, например, новый стоицизм пытается продать успешным людям спокойное довольство самим собой, правда, обернув это всё в лозунги в духе «будь как римский император (Марк Аврелий)». «Под вас» и «только для вас» — стало присказкой любых продаж.
Однако любая подобная литература — не более чем пример иллокутивного самоубийства, перформативное противоречие. Если вам кажется, что вы — обладатель уникальной личности, то спросите себя, что же может знать о ней автор тоненькой книжки, который даже в лицо вас не видел? Можно ли вас понять и просчитать, даже не беседуя с вами? За завесой общих слов авторы селф-хелп-литературы способны лишь навязывать свои убеждения (будьте как я) или абстрактные благопожелания, которые ничего не стоят (будьте хорошим и счастливым). На таком фоне как раз das man представляется чем-то бесконечно сложным, увлекательным и живым. Может поэтому рядом со словами о «новой аутентичности» всё чаще стоят попытки возврата/имитации очевидно коллективистских по своей сути традиций (к форматам народного костюма, национальной кухни и свадьбы, религиозных праздников и ограничений)?
Нарциссизм и «перформативная аутентичность»
Социальный теоретик Андреас Реквиц в книге «Общество сингулярностей» описывает этот феномен как «перформативная аутентичность». Нужно быть кем-то особенным, постоянно прокачивать скилы и компетенции, повышать продуктивность и стремится «быть сегодня более эффективным, чем вчера». В этом социальном принуждении к подлинности, «заботе о себе» удивительным образом совершается подмена понятий. Если «жаргон подлинности» чрезмерно смаковал родные экзистенциализму метафоры исключительного и аутентичного в контексте стремления людей с определенным умонастроением культивировать своего рода «экзистенциальную маргинальность», то в контексте повседневности эпохи «текучей современности» происходит нормализация сингулярного. Любая единичная биография пропитывается многообразными трендами и рыночными предложениями, внутри которых есть место «любой уникальности». Но само уникальное представляет собой лишь вариативную комбинаторику из мнимой разносортности модных микротрендов для «порабощённого воображения».
Жиль Липовецки в «Эре пустоты» описывает современный индивидуализм и специфическую озабоченность самим собой как проявление нарциссической конституции. Повсеместные стремления к построению «личного бренда», желанию совершить акт высказывания в форме комментария или возгласа на популярной телепередаче, чтобы застолбить «своё имхо» производят своеобразную инверсию. Происходит внутренняя метаморфоза, о которой Липовецки говорит следующее:
«Самое парадоксальное, в том, что никто, по существу, не заинтересован в этом изобилии выражений, за небольшим исключением, которым нельзя пренебречь… Самовыражение ради того лишь, чтобы выразить себя» [7].
Эта ничего не выражающая внутренняя пустота, мимикрирующая под «аутентичность» и «жажду быть собой» оказывается парадоксальным образом силой, аннигилирующей всякие экзистенциальные порывы и превращающей их в рутинные ежедневные компульсии современного человека с тягой к той самой «перформативной аутентичности». Однако, все эти коллизии и удивительные метаморфозы подлинности, достигающие её полной девальвации, не отменяют нужды в вопрошании: как быть с тем, что уникальная динамика персонального существования никуда не исчезла и нужда в вопрошании о собственной аутентичности не может быть полностью поглощена идеологией общества потребления, подхватившего «жаргон подлинности» в создании фетиша для дезориентированного постмодернистского субъекта?
Реанимация аутентичности или как жить в неизвестности
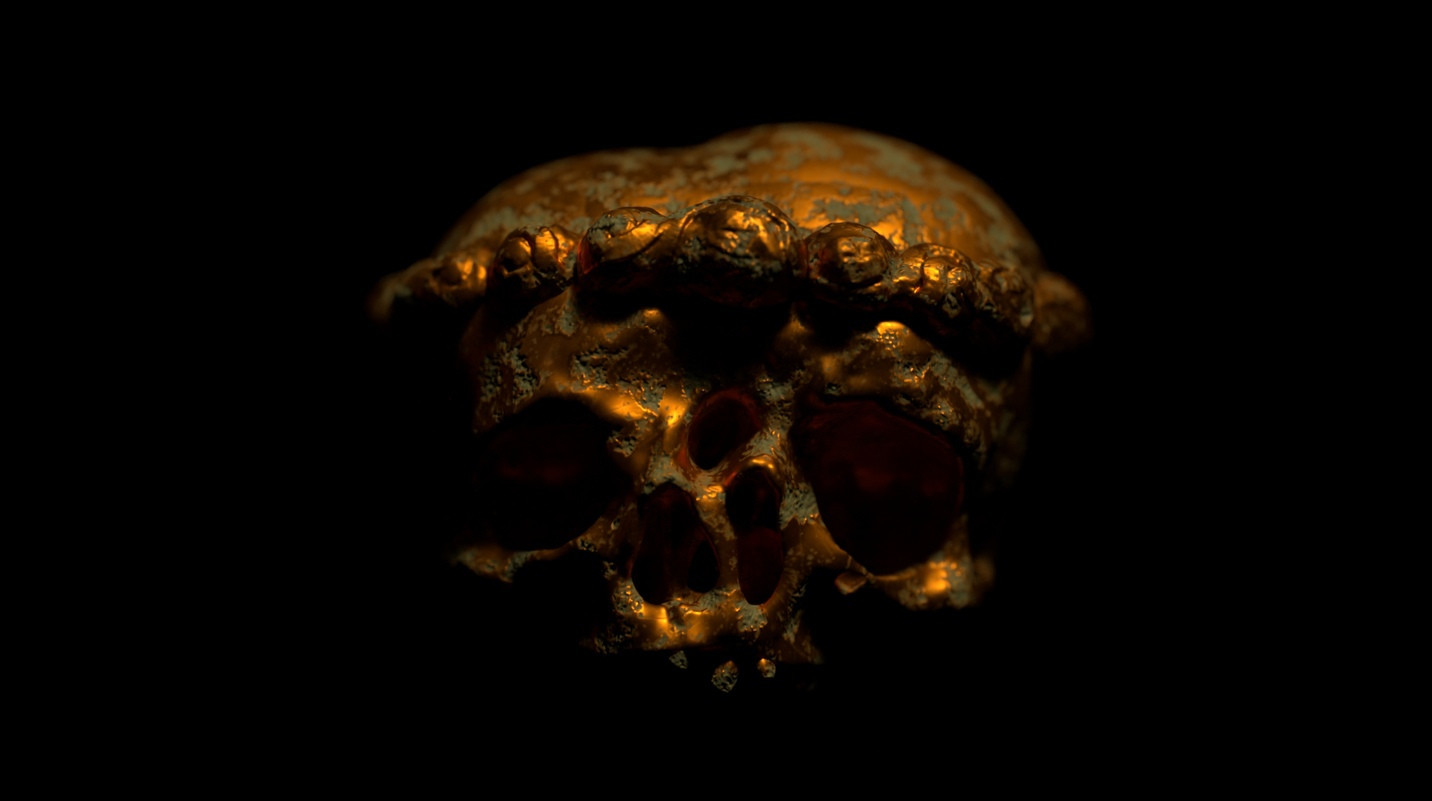
Проблема не только в том, что циничные психологи, маркетологи и прочие агенты Капитала использовали риторику, способную задеть за живое среднего потребителя. Не единожды было замечено критиками, что сам экзистенциализм и близкие к нему авторы регулярно уходили в сторону пафоса и помпезных констатаций, вместо поиска ответов на вопрос: «Как научить жить человека в неизвестности?». Может поэтому современный суррогат экзистенциализма, что мы видим в соцсетях, так высоко котирует Хайдеггера, Сартра и Камю, но никак не Кьеркегора или Шестова?
В сущности процесс «дегуманизации» — дело рук и самих борцов с ней, особенно неаккуратных в своих заявлениях экзистенциалистов. Начиная с
Но раз уж так, где же в текстах реально работающие техники достижения подлинности? «Просвет бытия» — всё-таки не очень конкретно. Кстати, если вы думаете, что в психологических книгах про аутентичность есть конкретика, то вас ждёт (поистине экзистенциальное) разочарование. Продают обычно либо абстрактные формулы, вроде «аутентичность = знать себя + отвечать за себя + быть собой», либо советы в духе: «Не зацикливайтесь на своей точке зрения (и я понятия не имею, как именно вы будете этого достигать)». Осмысленность и полезность подобных рекомендаций в целом может потягаться с фразами в духе «это у тебя привычка, просто перестань так делать» и «что ты переживаешь, успокойся». А субъективная значимость данных советов вряд ли бы превышала уровень погрешности, если бы не приходилось за них платить.
Читая этих авторов, включая Хайдеггера, не сложно ощутить неясно чем вызванное высокомерие ко всему «человеческому слишком человеческому». Один из важнейших маркеров здесь непонимание того, что самый что ни на есть подлинный и человеческий опыт — это проблематичность разделения между «казаться и быть». В этом плане настоящие экзистенциалисты и гуманисты скорее Кьеркегор или Ойген Финк: их идеям хорошо ведомо, что суть человека не в
Бытие (собой) — это глупо, плоско, пусто и уныло для человека. Там, где мы кем-то становимся, там же мы открываем и потерю, и перспективу будущего становления. Поэтому экзистенциалистам стоило потрудиться и лучше объяснить читателям, что подлинность совсем не отрицает воображаемое — мечты, амбиции, обманы и самообманы, травмы, а также переживание бытия никем и
Однако, это не значит, что экзистенциализм сплошь состоит из подобных ошибок или (что ещё смехотворнее) устарел. Значительная часть этого течения уже стала устойчивой формой нарратива о себе, со всеми плюсами и минусами подобного статуса. Более того, экзистенциальная платформа всё ещё эффективна и ценна в качестве критики обыденного сознания с его стереотипами, а также отчуждения в культуре. Такой вид критики сегодня живет скорее в искусстве, в основном в поэзии, а вот в философии подобный взгляд — лишь пролог к самостоятельному мышлению.
Ведь если Хайдеггер описывал аутентичное как разрыв с «диктатурой людей», уравнивающей все бытийные возможности индивидуального существования, то «перформативная аутентичность» современной эпохи предстаёт независимой от внутренней жизни субъекта и его самоотношения. Фактически, это новое торжество «жаргона подлинности» с неряшливой мимикрией под экзистенциалистские нарративы. Некогда драматическая и полная напряжения развилка «выбора себя» оказывается иронически снятой в гегелевском смысле: теперь выбирать приходится лишь форматы потребления и аксессуары, которые расскажут о вас за вас. Всякая попытка «оставаться собой» утрачивает трагический оттенок в массовом производстве симулякров «подлинного существования». Больше нет ни дилеммы «изменения/сохранения»; ни страдания от повторения, которого вы не хотите в своей жизни; нет экзистенциального страха не прожить свою жизнь или оказаться в стороне от себя, отыгрывая чужой сценарий. Вместо всего этого лишь серия опытов, оставляющих следы в Инстаграме и в банковских проводках, но не способная сложиться хоть в
Конструирование причудливой идентичности, сотканной из гендерной флюидности, необычного музыкального вкуса, лояльности к локальным брендам и пристрастия к экзотической кулинарии с лихвой заполняет внутреннюю пустоту размером с Бога. И уже не нужно вслед за Хайдеггером спускаться на ту внутреннюю глубину, где не слышны ничьи голоса. Напротив, нужно призвать их оценить стильный флекс.
Авторы текста: Алексей Соловьев, Иван Кудряшов
[1] Т. Адорно. Жаргон подлинности.
[2] Слоган из рекламы Sprite.
[3] М. Хайдеггер. Бытие и время (далее все ссылки на эту работу отмечены как SZ).
[4] Переводчик «Бытия и времени» В.В. Бибихин выбирает слово «присутствие» для того, чтобы обозначить им человеческое существование (Dasein) и считает именно его наилучшим способом описать исходную ситуацию с человеком, избегая традиционных философско-антропологических понятий, которых также избегает в своей речи Хайдеггер.
[5] Т. Адорно. Жаргон подлинности. О немецкой идеологии.
[6] Рекламный слоган Apple Inc.
[7] Ж. Липовецки. Эра пустоты: эссе о современном индивидуализме. С. 31
