Словарь постмодерна. Заговор искусства
Что не так с постмодернистским искусством? Может показаться, что абсолютно всё. Порой даже возникает ощущение, что художники, искусствоведы и критики находятся в неком заговоре, который позволяет им закрывать глаза на вычурный антиэстетизм и очевидную пустоту своих творений.
Философски эту интуицию выразил Жан Бодрийяр. С помощью концепции заговора искусства он продемонстрировал, как
Читайте эту и другие статьи на сайте Insolarance:

Искусство повсюду, и тем самым оно больше не существует.
Тема искусства — один из наиболее важных лейтмотивов теоретических изысканий Жана Бодрийяра. Идет ли речь про систему вещей, общество потребления или символический обмен, мы непременно увидим, как француз иллюстрирует и проясняет свои идеи через обращение к объектам искусства. И это не случайно. От банальной вещи искусство отличается тем, что оно ближе не к миру материальных объектов, а к миру образов и символов: вымышленных, иллюзорных и завораживающих.
Внимание к искусству можно объяснить и тем, что на раннем этапе своей карьеры, когда Бодрийяр был германистом, он близко познакомился не только со многими значимыми произведениями, но и с устройством арт-рынка. В это время он непосредственно взаимодействовал и изнутри наблюдал за тем, как функционирует литературная критика. На мой взгляд, впоследствии это и породит один из стержней рассуждений Бодрийяра об эстетике — рефлексию над зазором между тем, как искусство организовано и устроено изнутри и тем, как его презентуют публике.
На темы искусства и эстетики Бодрийяр активно писал начиная уже с 60-х. С течением времени француз пришел к нескольким концептуальным открытиям, которые в своё время взбудоражили многих теоретиков и практиков арт-рынка: художников и критиков, философов культуры и медиа, искусствоведов и культурологов. Что уж и говорить, если о современном искусстве зачастую и сегодня рассуждают в терминах Бодрийяра.
Наиболее известным и вызывающим оказался концепт «заговора искусства», изложенный в одноименном эссе. Неоднозначная идея одними была воспринята, как теория «конца искусства», для других же стала вдохновением для создания чего-то нового. Находятся и те, кто следуя за предложенным Бодрийяром вокабуляром, называют «заговор» теорией искусства после его конца.
В рамках этой статьи я постараюсь ответить на три вопроса. В чём же состоит заговор искусства? Действительно ли это теория конца искусства? И насколько идея «заговора» актуальная для сегодняшней культуры?
Что такое заговор искусства?
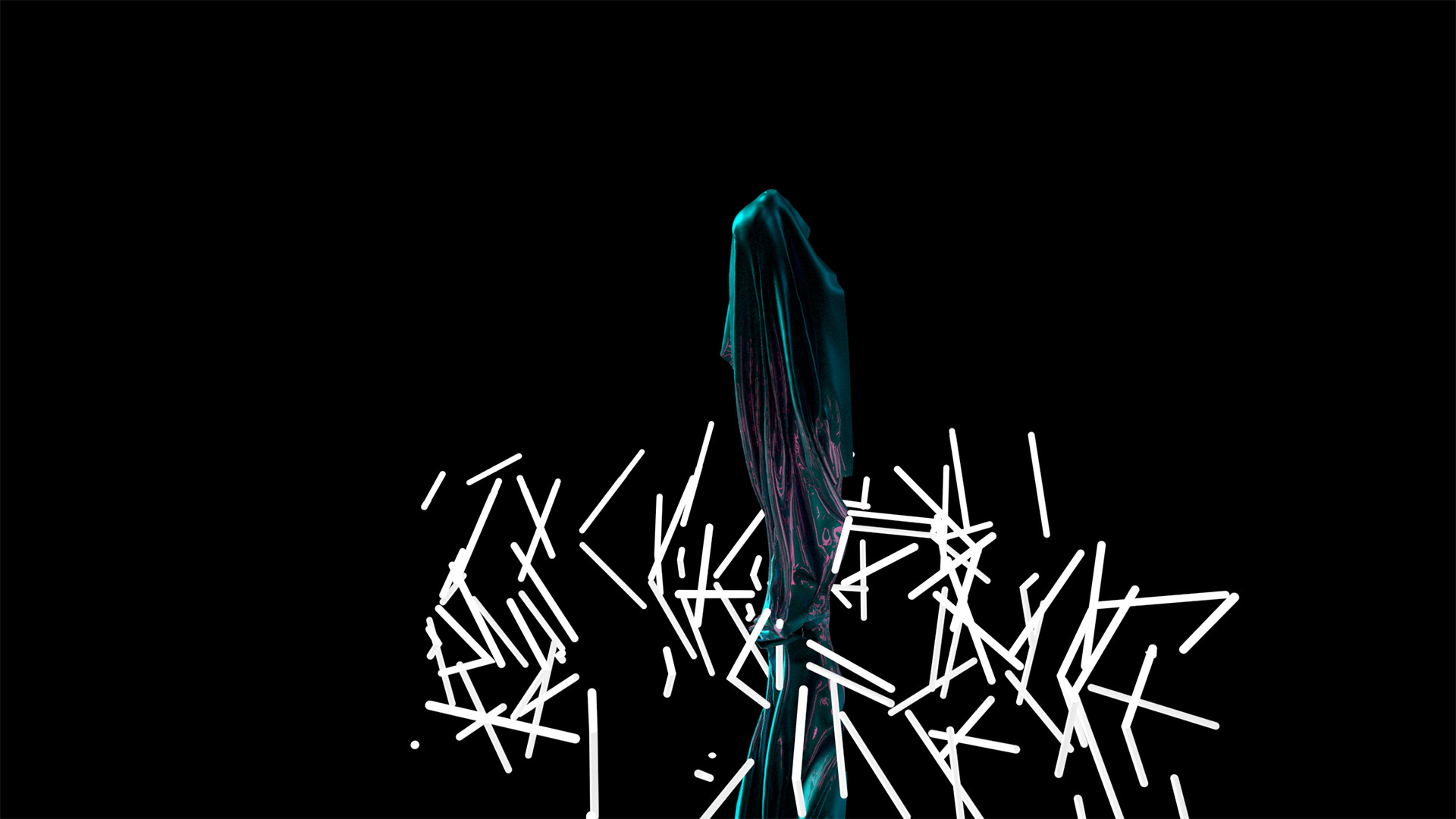
Для Бодрийяра искусство становится современным в тот момент, когда в нём можно уловить утрату желания иллюзии. С точки зрения француза суть наслаждения объектами творчества состоит в иллюзии тайны и некого неописуемого содержания творчества, которое невозможно окончательно ухватить ни чувственно, ни теоретически.
Здесь Бодрийяр отсылает к двум значимым для французской философии двадцатого века идеям. Естественно, к «проклятой доле» Жоржа Батая, которая интерпретируется примерно следующим образом: в артефактах культуры мы можем обнаружить тягу к непроизводственной трате, являющейся неотъемлемой частью человеческого существования. Грубо говоря, в обыденной жизни нередко можно встретить вопрос о том, зачем вкладывать усилия и средства в творчество, если их можно потратить на более практичные вещи. Ответ Батая состоит в том, что эстетическая сила искусства не только оправдывает эти траты, но и позволяет человеку реализовать скрытую тягу к ним.
Вместе с тем, тут же Бодрийяр ссылается и на лакановский концепт желания, как на нечто, что не вписывается в
Проще говоря, обе идеи подразумевают, что искусство — это всегда не только набор определенных материальных артефактов, но и некий дух, стоящий за ними. Причём, не в мистическом смысле, а в плане наличия некой особой структуры искусства, его фундаментальной отличности от других сфер человеческой жизни. Такой взгляд характерен для широко пласта классических эстетических теорий, которые апеллируют к особенному опыту и ощущениям. К тому, что в теории схватывается не полностью, в лучшем случае только по подобию, но именно поэтому и является её важной частью.
Для Бодрийяра современная эстетика вслед за всей культурой становится гиперреальной: её устройство, проявления и формы настолько известны и очевидны, что благодаря этой транспаренции она выходит за границы каких-либо ценностных и эмоциональных разделений, вроде прекрасного и ужасного. Любая тайна искусства таким образом уже заранее разоблачена. Любое ощущение или опыт описаны, сведены к нейрофизиологическим реакциями. Искусство оказывается лишенным своего духа, желания и проклятой доли. В связи с этим Бодрийяр указывает, что подобные изменения в эстетике привели к невозможности различить высказывания об искусстве, основанные на эстетическом опыте, от произвольных.
Сегодня мы понимаем, что музыкальные композиции не чаруют сами по себе, а просто провоцируют нас на определённые реакции через зафиксированные в теории удачные мелодические и ритмические формы. Причём удачными они стали ввиду многократного повторения того, что просто получалось делать, но что закрепилось в западной культуре, которая по стечению обстоятельств стала мировой. Точно также и с другими видами искусств, которые сводимы до набора удачных приёмов. При том даже необязательно знать каких именно, важно само ощущение возможности такой редукции.
В подобной ситуации, когда симулятивность тайны искусства очевидна, и апелляция к ней не вызывает особых чувств, наступает время иронии. Высмеивание пафоса классических подходов, подрыв ценностных нарративов, «Фонтаны» Дюшана и
Обращение к иронии со стороны творца француз сравнивает с торговлей инсайдерской информацией на биржевых рынках: такой человек спекулирует на тайне, которая является сферообразующей. И пока инсайдерская торговля на бирже пресекается законом, торговля иронией становится тем самым заговором искусства. Бодрийяр описывает это как своего рода вторичную переработку: обесцененное искусство разыгрывает сцены своего собственного обесценивания, разоблачения и даже исчезновения. Иными словами, объекта, на который направлена ирония, уже по сути своей нет, но сама ирония оказывается тем, что раз за разом симулирует исчезновение этого объекта.
Как метко замечает Бодрийяр, ироническое высказывание претендует на эффектную критику чего-то условно более возвышенного с заведомо приземленных и банальных позиций. Иронический эффект таким образом состоит в обесценивании или парировании сложного риторического хода простым. С точки зрения Бодрийяра, если не брать в расчёт юмористическое значение, то ирония оказывается худшей альтернативой, каким бы ригидным и незаслуженно пафосным не казался бы изначальный дискурс. С её помощью на место ценностно-ориентированного подхода и условно более высокой эстетики приходит банальность. При том ещё и удвоенная, если ирония успешна. Исходя из этого Бодрийяр характеризует заговор искусства как процесс воспроизводства и распространения банальности, которая легитимируется через подобный иронический миф.
То есть, заговор искусства — это про фиктивную самокритику внутри самого искусства, которая фактически оказывается способом его воспроизведения, а не низвержения.
«А ведь в подавляющем большинстве современное искусство занимается именно этим, то есть апроприацией банальности, отбросов, обыденности, возводя все это в систему ценностей и идеологию. За всеми этими бесчисленными инсталляциями и перформансами нет ничего, кроме игры в компромисс одновременно с нынешним положением вещей и всеми прошлыми формами из истории искусств. Исповедование неоригинальности, банальности и ничтожности, возведенное в ранг эстетической ценности или даже извращенного эстетического наслаждения. Естественно, что вся эта обыденность претендует на то, что она становится более возвышенной [sublimer], переходя на следующий, иронический уровень искусства. Однако и на этом втором уровне все остается столь же ничтожным и незначительным, как и на первом. Переход на эстетический уровень ничего не спасает, как раз наоборот: получается обыденность в квадрате. Все это претендует на то, чтобы быть ничтожным: «Я никакой! Я ноль! Я ничто!» — и в самом деле: ничто [nul]».
Сообщество деятелей современного искусства — и творцов, и критиков, и искушенной аудитории — Бодрийяр видит, как фальсификаторов собственной обсценности и ничтожности. Француз обращает внимание на особый снобизм персонажа, пораженного ироническим разумом. Это не снисходительность аристократа, которая имеет вполне себе ценностное обоснование, но странная фантазия, где критикуемое и обесцениваемое раз за разом выдумывается. Где окружающая культура описывается и конституируется нужным образом, позволяющим через иронию нарабатывать символические дивиденды.
Ироническая позиция верна лишь в том случае, когда её носитель базируется на безошибочном и точном описании окружающего его мира культуры. Как мы понимаем, это невозможно. Отсюда и проистекает неутешительный вывод Бодрийяра: ирония всегда направлена на объект, который вымышлен таким образом, чтобы ирония была возможной. Проще говоря, она производит симулякры. Когда же ироничность и «мета» сознание становятся мейнстримом, то культура оказывается в ситуации диктата этих пустых образов, которые не годятся ни на что другое, кроме как на дальнейшую самомистификацию. Например, в виде постиронии.
Живя чуть более чем через 20 лет после того, как Бодрийяр сформулировал концепт «заговора», мы видим, как на наших глазах раз за разом разыгрываются всевозможные новые витки иронической спекуляции. Главная из них сегодня — это оппозиция искренности и ироничности, которая специфически интерпретируется в качестве предложения смотреть на
Если мы не сторонники наивной диалектики, то становится очевидно, что логически одинаково ироничным и искренним может быть только что-то вроде крайней банальности. Просто по причине того, что в ней оба этих показателя на нуле. То есть искренность от иронии трудно отличить в ситуации, когда по сути нет ни того ни другого, а есть некая специфически описываемая произвольность. Так что постироничное — это в действительности произвольное, находящееся на нулевом уровне эстетики. Продолжение ли это заговора искусства или некое действительное проявление ничтожности в искусстве, достойное быть в одном ряду с работами Уорхолла? Над этим я предлагаю поразмыслить самостоятельно.
Это теория конца искусства?
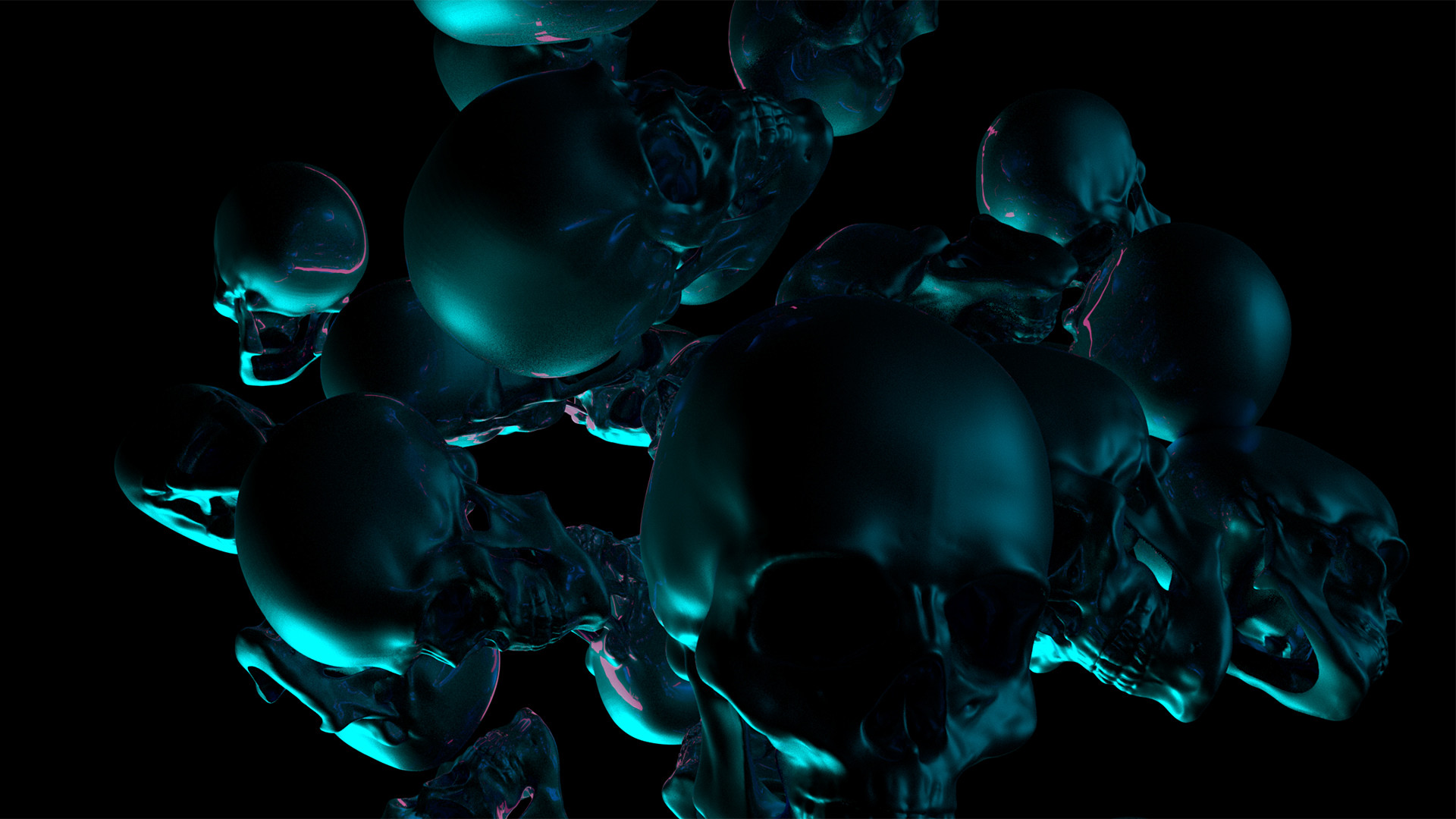
«Заговор искусства» нетрудно прочитать как текст, отстаивающий невозможность искусства в современных реалиях. Тем не менее такой вывод поспешен, и «заговор» в теорию конца искусства превращается лишь со значимой долей реконструкции мысли Бодрийяра, как например у Дугласа Келлнера. На мой взгляд, вывод Бодрийяра не так радикален, ведь в самом эссе он упоминает менее известный, но важный для понимания его взглядов термин — трансэстетика. Тем самым он указывает на то, что искусство действительно в обыденном понимании как нечто функционирующее в рамках категорий и ценностей эстетики, оказывается пройденным этапом в западной культуре. По видению Бодрийяра, уже модерн сопровождался интересом к деконструкции и подробному анализу сути эстетики, а поэтому он оказался последним периодом, когда было возможно эстетическое искусство. Творцов и теоретиков этого периода можно сравнить с воображаемой группой учёных-археологов, которые преуспевают в раскопках древнего храма, но итогом их изысканий становится столкновение с хтоническим злом, скрывающимся за благовидной древностью.
Искусство таким образом не кончается и не умирает, оно становится гиперреальным: подстраивается под общий модус современной культуры, где даже вновь может обрести статус ценной обменной монеты в процессе символического обмена. И теперь оно является не ценностно инспирированным эстетическим, а трансэстетическим — лишенным значительной доли собственной специфики в пользу более эффективного участия в обмене.
Сам же сдвиг в эстетике — отдельная тема, которую я раскрою в другой статье. Стоит лишь подчеркнуть, что рассуждения Бодрийяра являются не только критикой, но и размышлениями в рамках онтологии искусства. Нетрудно заметить, что француз сохранил за собой значительный пиетет к сфере прекрасного, который наиболее явно выражается в его серьёзном отношении к различным идентификациям, образам и знакам в искусстве.
Например, тех же заговорщиков он напрямую критикует за то, что они лишь симулируют собственную ничтожность. По мнению француза, выражение ничтожности в творчестве — всё ещё высокая эстетическая задача, которую не так уж и просто реализовать. Здесь Бодрийяр выступает с довольно консервативных позиций, напрочь исключая этику из вопроса об эстетике. Наоборот он даже делает её анти-этичной, настолько элитарной и нелиберальной, что с его позиции даже ничтожеством в искусстве нельзя быть просто так. Справедливости ради стоит отметить, что сам француз слова вроде «ничтожества» не использует в полностью негативной коннотации и скорее обсуждает претензию на ничто в искусстве.
С позиции Бодрийяра претензии на ничтожность соответствует Энди Уорхолл и порожденный им поп-арт. Для француза работы в этом жанре оказываются одними из последних, где исчезновение искусства и наступающая банальность выражаются эстетически. Как известно, согласно легенде кто-то сказал Энди, что популярным может стать только то произведение, в котором художник рисует то, что по-настоящему любит. Уорхолл делает с этой фразой весьма интересную операцию: вместо вписывания своих самых интимных предпочтений, он вычитает себя из искусства, буквально говоря: «Я такой же, как все и люблю то же, что любит средний американец». Так на его картинах появляются банка супа Кэмпбелл, нарисованные доллары и звезды Голливуда. Банальность узнавания заменяет все прочие эффекты, которые для современного зрителя уже весьма неочевидны.
Сохранился ли заговор искусства до сих пор?
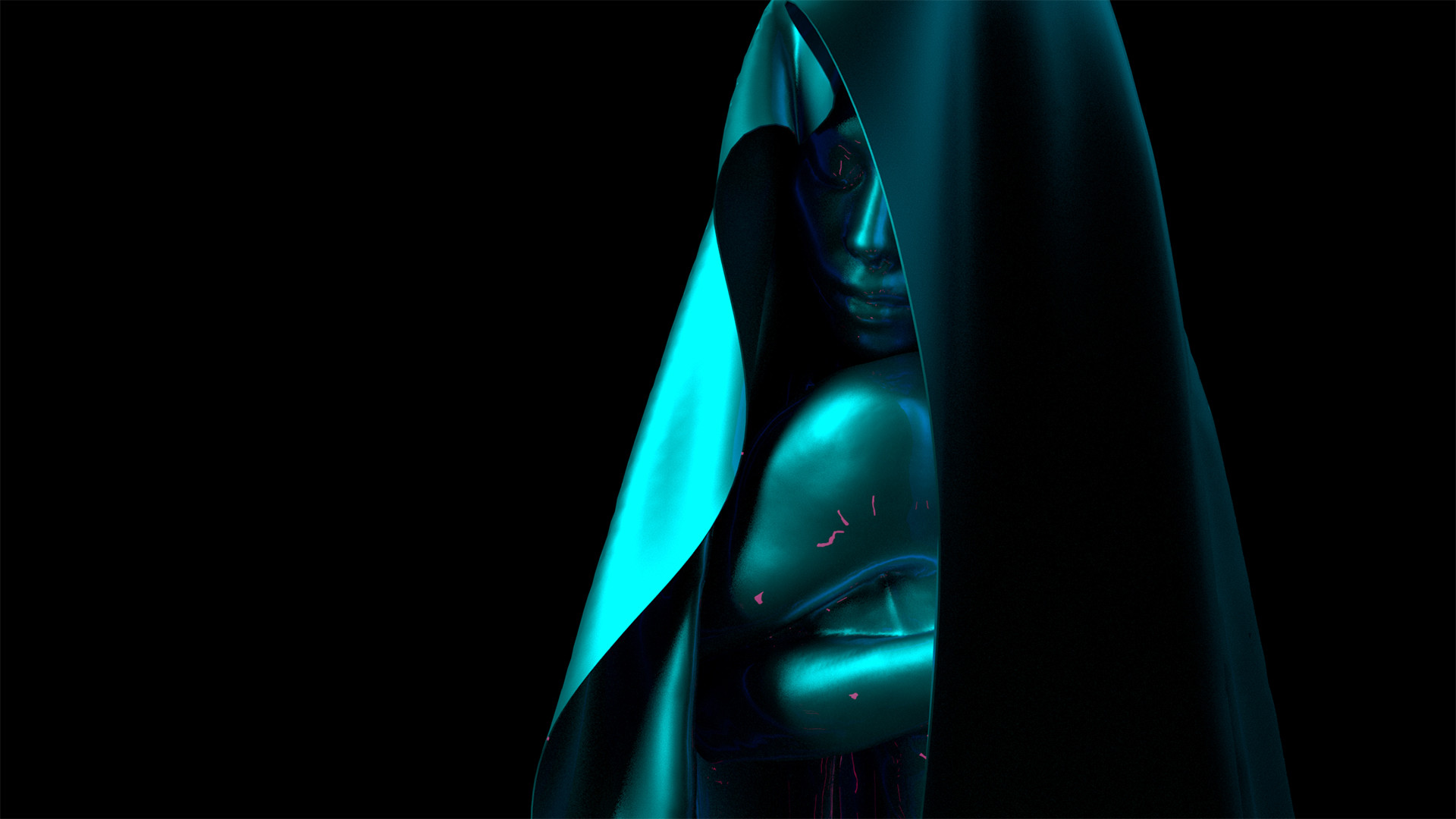
Иронический подход в искусстве, игра с мотивами его исчезновения, бессмысленности, обсценности — это актуальная модель поведения на
Если говорить терминами другого философа, иронические мотивы и ходы в культуре — это про создание языковых игр, которые критикуют конвенции других, но и сами по себе требуют конвенционального согласия со своими основными положениями.
Вместе с тем, мне не кажется, что та ирония, о которой говорит Бодрийяр — это единственно возможный вид иронии. Определённо это наиболее расхожая форма, включающая в себя мотив вполне серьёзного обесценивания некой сферы. Что уже само по себе иронично, ведь по факту такой иронист стоит на сравнимых по уровню ригоризма позициях с теми, кого он критикует. Будем считать, что Бодрийяр признаёт как факт то, что современная ирония зачастую поражена ресентиментом или является его продуктом.
Но вопрос не исчезает: ирония — это только про обесценивание? Полагаю, что очевидно нет. Интернет полон субверсивной иронии, которая близка к некой непроизводительной культурной трате. Речь про своего рода «метаиронию», которая, как кажется, не призвана быть всё той же разменной монетой на рынке символического обмена. Тем не менее, соблазн велик и мы можем заметить, что маркируемые таким образом вещи зачастую не могут долго сохранять чистую субверсивность и довольно быстро стагнируют, симулируя собственную относительно большую ценностную значимость, чем просто ирония. Для удобства то, к чему стагнирует метаирония я бы назвал постиронией, ибо именно под этим ярлыком зачастую можно обнаружить сокрытое ценностное значение.
Метаирония же таким образом возможна как принципиальное следовании принципу субверсии. В рамках своеобразного цифрового потлача, который скорее возникает не как ритуал, а как спонтанная игра в бесполезное производство. Например когда участники конференции начинают воспроизводить временно заинтересовавшую их юмористическую форму, не желая превращать это событие в контент. Допустим, таким статусом могут обладать локальные мемы, которые рождаются в закрытых конференциях мемоделов и не выходят за их рамки.
Подытожить эту линию рассуждения можно следующей максимой. Постирония — это контент, а метаирония — ивент. Второе может необратимо стать первым, но не наоборот.
Возвращаясь к теме, жизнеспособность заговора искусства базируется на трёх фактах: он выгоден для заговорщиков, в него относительно просто вступить, и он отлично включает в себя различные формы критики. Прекращение заговора означало бы радикальный сбой в работе арт-рынка. В том числе в способах построения культурологии, искусствоведения, философии культуры и искусства, да и множества других смежных направлений. Тут возникает вполне известная куновская проблема устойчивости парадигмы — да, современное искусство вызывает у нас множество претензий и вопросов, но его существование поддерживает огромное количество специалистов, которые вкладывают свои силы, получают зарплаты и т.д.
Иными словами, эстетические проблемы современного искусства хоть и представляются яркими, но они до сих пор недостаточно велики, чтобы особенно волновать деятелей эстетики. Как кажется, некий сдвиг наблюдается, но он абсолютно незначителен для парадигмы — для заговора искусства. Вполне в духе Бодрийяра было бы сказать, что всевозможные сдвиги и «засветы заговора» — это не про его ослабление, а про включение всё новых пластов искусства в него.
В конечном счёте, говоря о некой общей парадигме искусства, надо понимать, что скорее всего она имеет синтагмический характер: базируется на интуитивной сочетаемости объектов, а не на их соответствии некоторому фундаментальному принципу.
Выходя на уровень метафизики Бодрийяра, заговор оказывается процессом в рамках интегральной реальности, построенной на логике включения всего во всё. Творчество в этом плане функционирует по аналогичной модели, где его главной видимой задачей оказывается упорное доказательство того, что всё в конечном счёте может быть искусством. Но в том и парадокс, ведь если что-то потенциально может быть всем, то по своей сути оно уже ничто.
Автор текста: Алексей Кардаш.
В оформлении использованы работы Mateusz Kozłowski.
