Анабасис. Фрагмент из книги «Век» Алена Бадью
«Век» Алена Бадью — это серия семинаров, проводившихся в 1998-2001 годах в Collège international de philosophie. Публикуем главу под названием «Анабасис», в которой Бадью анализирует две одноименные поэмы: одну, принадлежащую Сен-Жон Персу, другую — Паулю Целану.
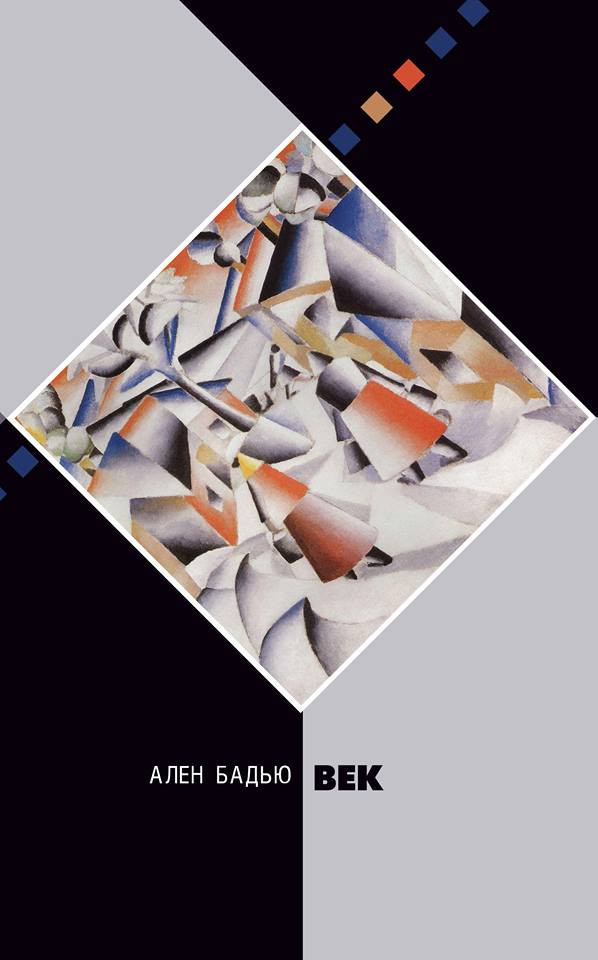
Анабасис
10 ноября 1999 г.
Как век понимал свое собственное движение, свою траекторию? — Как восхождение к истокам, как трудное строительство нового, как отторгаемый опыт начинания. Эти значения, а также некоторые другие собраны в греческом слове анабасис. Так называется рассказ Ксенофонта, который повествует об истории войска из 10’000 греческих наемников, защищавших интересы одной из противоборствующих персидских династий. Заметим, варвары ценили греков не за их утонченную цивилизацию, а за их воинские способности. Что же было ядром военной мощи греков (затем македонян, затем римлян), что позволяло им одерживать верх над огромными скоплениями персидских и египетских воинов? Дисциплина. Неспроста военный устав в первой же статье, гласит, что «главная сила армии — дисциплина». Завоевательная гегемония Запада, а речь здесь идет о Западе, по существу основана на дисциплине — дисциплине мысли, сплоченной силе убежденности, политическом патриотизме, сконцентрированных в военной слаженности. И когда Ленин настаивает на железной дисциплине в пролетарской партии, то он знает, что пролетарии, лишенные всего, смогут взять верх, только если они сознательно возьмут на себя, как следствие и материальное воплощение политической состоятельности, — обязательство соблюдать небывалую дисциплину и организованность.
Всякий анабасис требует, таким образом, чтобы мысль соблюдала дисциплину. Без подобной дисциплины подъем, один из смыслов слова анабасис, невозможен. Ксенофонт и 10’000 его соратников испытают это на себе. В битве при Кунаксе убит перс, нанявший греческое войско, и греческие наемники вдруг остаются одни посреди чужой страны, без местной поддержки и
без всякого заданного назначения. Анабасисом будет названо движение к себе людей, сбитых с толку, вне закона и не у дел. Выделим три характерные черты движения, названного анабасис:
а) Ксенофонт описывает крушение порядка, придававшего смысл коллективному присутствию греков в лоне Персии. После Кунаксы греки внезапно теряют всякое основание пребывать там, где они есть. Теперь они лишь чужеземцы во враждебной стране. Корнем анабасиса служит своего рода принцип потерянности, сбивчивости (égarement).
в) Греки обретают нечто новое — это императив. Поход сквозь Персию, к морю не заимствует из прошлого путь в готовом виде и не соответствует заранее выбранному направлению. И он не сможет быть и простым возвращением, поскольку дорогу приходится обретать, не зная, действительно ли она ведет обратно. Тогда анабасис — это блуждающее изобретение пути, которое может стать возвращением — но возвращением, не существовавшим в качестве пути-возвращения до этого блуждания.
Одна из наиболее известных сцен анабасиса — сцена, когда греки, взобравшись на вершину холма и увидев наконец море, кричат: «Море! Море!». Ведь море для грека — это уже прочитываемый фрагмент родины. Увидеть море означает, что изобретаемое блуждание, возможно, намечает кривую возвращения. неизвестного возвращения.
Наметим, что же в слове анабасис поддерживает размышление о нашем веке. Остается невозможным-решить, как соотносятся в выбираемом пути обретаемое дисциплиной и блуждание наугад, — это дизъюнктивный синтез волеизъявления и сбивчивости. Подобная невозможность-нерешительность удостоверена самой семантикой греческого глагола, означающего одновременно и отправляться, и возвращаться. Это спаривание противоположной семантики как нельзя лучше подходит веку, который беспрестанно задается вопросом, есть ли он начало или конец.
И действительно, с разницей в сорок лет, обрамляющих ядро века (30–40 годы), два поэта пишут поэмы под одним и тем же означающим Анабасис. Сначала, в 1920-е годы Алекси Леже под именем Сен-Жон Перс. Затем — в начале 1960-х годов Пауль Анцель под именем Пауль Целан. Из контраста этих двух анабасисов мы постараемся вычленить то, как век осознает свое движение, ту хрупкую веру, в которой он предстает восхождением к собственно человеческому, анабасисом высокого предназначения.
Два поэта различны во всем. С вашего позволения, я размечу это различие, поскольку для века значимо поэтическое приятие в том же самом Анабасисе двух типов существования, столь жестко различных между собой.
Алекси Сенлеже Леже (Сен-Жон Перс, 1887–1975) родился в Гваделупе. Представитель белого населения Антильских островов, потомок колонистов, выходец из знатного рода плантаторов, обосновавшихся в Гваделупе два столетия назад. В его глазах, его раннее детство проходит в раю — колонии всегда были раем для колонистов, какими бы прогрессивными ни были их убеждения. Я вполне со-чувствую Сен-Жон Персу (в этимологическом смысле, то есть чувствую вместе с ним), когда я грежу о моем собственном раннем детстве, проведенном в Марокко среди моих пышных, окутанных покрывалами нянек, когда вспоминаю Фатиму — фатимой в колониях называлась любая арабская женщина, ведь аборигены (еще одна показательная категория той райской жизни) мало отличались один от другого. И другие картинки: я, маленький мальчик, смотрю на своего отца, в то время работавшего обычным учителем математики, с высоты нашей белой виллы, сокрытой в фиолете бугенвиллий, смотрю, как он возвращается с охоты с собаками и слугами, согбенными под тяжестью заваленной дичи. Меня нисколько не удивляет, что для поэта такое детство способно быть завораживающим. В подобной тональности выдержан первый стихотворный сборник «Хвалы» (1907–1911), один из разделов которого назван «Чтобы отпраздновать детство». В нем задан вопрос о памяти достойный Пруста: «Разве кроме детства было что-нибудь, чего больше нет?» — Вкусного бесстыдства колониальной нирваны — ответим мы сегодня.
Алекси Леже покидает острова в 1899 г. Он выставит свою кандидатуру на конкурс министерства иностранных дел и станет дипломатом. В войну 14-го он служит в министерстве, в качестве атташе посольства едет в Китай, путешествует по центральной Азии, как это видно из Анабасиса, написанного в 1924 г. начиная с середины 20-х он — образцовый чиновник высокого ранга. на протяжении почти двадцати лет Леже не опубликует ни одного стихотворения. С 1933 по 1939 гг. он будет занимать высший пост генерального секретаря на набережной д’Орсэ [1]. В 1940 г. Леже, лишенный французского гражданства Петеном, уезжает в соединенные Штаты. Дружеские связи в Америке дают ему возможность занять пост директора библиотеки Конгресса. Находясь вдалеке от Франции, в частности
По сути, начиная с 1950-х годов, Сен-Жон Перс занимает оставшееся свободным после Валери место официального поэта Республики. Судьба его не обидела — райское детство, блестящая государственная карьера, благородное изгнание, светлая любовь, высокие награды. Никакие жестокости века, похоже, его не коснулись. В этом смысле, если продолжить клоделевский образ по-
эта-дипломата и добавить к нему черты китайского поэта-чиновника (я пишу стансы об изгнании и преходящем характере вещей, но никому не позволено не знать, что я секретарь императора), Сен-Жон Перс представляет собой фигуру, в которой в разгар ХХ века увековечены черты ХIХ-го. Гражданин Третьей Республики, человек эпохи спокойного империализма и благополучного Государства, он принадлежит цивилизованному и дородному классовому обществу, дремлющему в собственном могуществе, — обществу, главенствующим литературным жанром которого становится речь по случаю присуждения премии. Достаточно прочитать Нобелевскую речь Сен-Жон Перса, чтобы почувствовать, насколько привычно для него такое упражнение и сколь успешно может он соперничать с Валери (признанным мэтром лицейских и академических церемоний) в элегантном и милом слуху, что совсем не так просто, мастерстве владения торжественными общими местами.
И что же подобного рода человек может засвидетельствовать о веке и его страсти к настоящему (reel)? Зачем обращаться к этому свидетелю? Оказывается, из глубины позолоченного кресла чиновника уходящей республики Сен-Жон Персу был прекрасно заметен — как бывает заметен отдаленный гул, о причине которого не знают или не хотят знать — эпический размах века. А может быть, именно высокое положение, тайная отстраненность, тем более радикальная, что Сен-Жон Перс занимал ключевой государственный пост, позволили ему лучше, чем другим, уловить то, что эта эпопея по своей сути эпопея ради ничто. Дизъюнктивный синтез, вносимый поэзией сен-Жон Перса, это сочетание духовной незаполненности и эпического утверждения. Предъявляемый им образ века, хотя прямо об этом никогда не говорится, соответствует императиву времени, звучащему примерно так: Твоя сила в отрицании, но твоей формой будет эпопея.
Сен-Жон Перс будет восхвалять то, что есть, в точном соответствии (в такт нашим сердцам), — не стараясь связать его ни с каким смыслом. Его анабасис — это чистое эпическое движение, но в основании его — безразличие. Поэма мыслит существовавшую в веке глубинную связь между насилием и утратой. Прочитаем показательную в этом отношении часть VIII Анабасиса:
Законы о продаже кобылиц. Законы бродячие. Как сами мы. (Цвет человека).
Нам спутниками эти ураганы высокие, клепсидры, по земле бегущие,
и эти торжствующие ливни чудесного состава
из насекомых и пыли, неотвязные от наших людей в песках, как подушная подать.
(В такт нашим сердцам там было столько изведано утрат!…)
***
Не то чтобы бесплодным был поход: под шаг беспарных наших животных (чистокровных коней с глазами первенцев), там было столько всего замышлено в потемках душ — столько всего в часы досуга, у предела рассудка — великих историй селевкидских под свист пращей — и толкованьям преданная земля.
Иное: эти тени — вероломство небес по отношению к земле.
Но, всадники, среди таких людских семей, где ненависти пели зачастую синицами,
поднимем ли мы бич над холощеными словами счастья? — Человече, измерь свой вес, исчисленный в зерне. Ведь не моя же это страна. Что мне дал мир, кроме волненья трав?…
***
До места под названьем «Сухое дерево»:
и алчущая молния мне назначает эти провинции на Западе.
Но дальше — еще большее приволье, в той великой
стране лугов беспамятных, и этот год без дружб и годовщин, приправленный огнями и зорями. (На утренне жертвоприношенье — сердце от черного ягненка.)
***
Пути земные! Кто-то один идет по вам. Главенство над всеми знаками земли.
О путник на желтом ветру, о вкус души!… Так, говоришь ты, семя индийского луносемянника имеет — пусть истолкут его! — дурманящие свойства…
***
Великий принцип насилия повелевал у нас.
И напротив, самое жесткое настоящее века пронизывает жизнь Пауля Целана — Пауля Анцеля (1920–1970). Этот человек беззащитен: ни благородное происхождение, ни правительственные должности не хранят его. Он родился в Румынии, в Черновцах, провинции Буковина. Заметим, что родился он почти тогда, когда дипломат сен-Жон Перс в возрасте 33 лет писал Анабасис. Целан — из еврейской семьи. В детстве он погружен в языковое многообразие: немецкий, идиш, румынский. В 1938– 1939 гг. он изучает медицину во Франции. В 40-м Буковина присоединена к СССР в результате немецко-советского пакта.
Целан изучает русский. Он будет переводить всю жизнь, и один из его сборников будет посвящен Мандельштаму. В 41-м наступают немцы, и русские покидают Буковину. Здесь организовано гетто, родители Целана депортированы. Отец умрет от тифа, а мать будет расстреляна. В 42-м Целана отправляют в
Целана можно считать поэтом, завершающим век, если иметь в виду малый век, как я его назвал, короткий век, предваряющий Реставрацию двадцати последних лет.
В тысячу раз повторенном утверждении о совершенном бессилии философии соотнести себя с преступлениями века я не вижу ничего больше журналистской сенсации. Эта проблема ставилась в философии ничуть не лучше и ничуть не хуже, чем в других областях мысли. Во всяком случае, лучше, чем теми, кто ей в этом отказывает. Также я считаю, что не имеет ни малейшего смысла заявлять, следуя полаганию Адорно, что после Освенцима писать стихи невозможно. Нет никакого парадокса в том, что Целан, для которого Освенцим — это точка особенного сгущения, своего рода Черный Огонь, соотносящийся одновременно и со всеобщим, и с трагически личным, — беспрестанно изобретает — и, как высший вызов, принуждает к такому изобретению немецкий язык, язык убийц — изобретает на немецком языке поэзию, как раз и способную измерить то, что приключилось с людьми в 30-х и 40-х годах. Поэт-свидетель этих лет, Целан завершает период, открытый Траклем, Пессоа и Мандельштамом, период, в который поэзия была уполномочена именовать век. После Целана создается много стихов, но больше нет поэзии века. Век, помысленный как размышление о себе самом, поэтически закончен.
Стихотворение Целана «Анабасис» входит в сборник «Die Niemandrose» («Роза-никому»), изданный в 1963, сорока годами позже стихотворения «Век» Мандельштама, любимого поэта Целана. и сорока годами позже «Анабасиса» сен-Жон Перса.
Вот как Целан излагает свой анабасис:
Это
тесно меж стен вписанное
неудобоходимое-истинное
восхождение вспять
в
Там.
Слого- и
волнорезы, море-
цветы, в даль –
в невидаль — вдающиеся.
Потом:
бакенов,
стонущих бакенов строй,
с теми
дивно-секундно скачущими
дыхательными рефлексами –: свето-
колокольные тоны (донн-,
динн-, одинн-,
unde suspirat
cor), –
из-
изнывающие,
взывающие, наши.
Видимое, Слышимое,
освобождаясь –
Свод-Слово:
В-Одном.
Между этими двумя поэтами, между двумя анабасисами разница не только стилистическая. Само понимание того, что есть поэтическое, различно. Скажем, что здесь аннулируется некоторый образ красноречия. Я называю красноречием убеждение в том, что язык действительно располагает ресурсами и ритмами, которые нужно лишь использовать. стихотворение Целана не красноречиво, потому что оно предъявляет неуверенность в самом языке, так что язык предстает раскроенным, разлезшимся по швам, рискованно переделанным и практически никогда — во всей своей силе и славе. на самом деле для Целана 40-е годы сделали невозможной вовсе не поэзию, но непристойное красноречие. Тогда нужно предложить поэзию без красноречия, ведь истина века, неудобоходимая для языка, неизрекаема, если пытаться заявить ее в декоративных образах, в которых у
Анабасис, заявляет Целан, неудобоходимо истинен («impracticable-vrai» [unwegsam-wahre]). Вот еще одно мощное проявление дизъюнктивного синтеза. стихотворение должно представить истинное времени в неудобоходимости унаследованного языка. Речь идет о крайнем усилии, в то время как поэма сен-Жон Перса, воплощенная в ритмической архитектонике и красочной очевидности образов, предстает истинно-непринужденной. Одно и то же слово анабасис заряжено двумя почти противоположными стратегиями понимания задач и возможностей поэзии. Тогда почему одно и то же слово — вот вопрос. Что означает анабасис как знак поэтической мысли века?
Разность в том немногом, что разделяет наготу и свирепость ХХ-го и продление XIX-го в
Именно в изначальной разнородности между вершиной унаследованной риторики (примерно, как у Гюго) и едва ли позволительной поэзией (как у нерваля) нам необходимо выстроить вероятностное единоголосие анабасиса как ключевого означающего для траектории века.
Давайте выделим некоторые темы. В тексте Сен-Жон Перса я предлагаю выделить, в соответствии с нашей мыслью о веке, замечания о субъекте, о его утрате и о его счастье.
1. Любой поэтический или повествовательный текст ставит вопрос о субъекте. Вопрос следующий: Кто говорит? наташа Мишель представила вопрос «кто говорит» в качестве целостной логики и создала вокруг него совершенно новую теорию романического началаi. В стихотворении Перса ответом на данный вопрос станет квази-равноценность я и мы. Действительно, подобная равноценность устанавливается с самого начала Анабасиса (напомним, что здесь мы приводим только часть VIII), — в начале же в одном движении обнаруживают себя высказывания вроде провижу я край, в котором свой закон поставлю и оружие наше и море поутру красивы. Подобная равноценность первого лица множественного и единственного числа, естественно вписанная в призывность поэмы, у Целана потеряла, как мы увидим, всякую очевидность, то есть всякую способность быть воссозданной. В Анабасисе Перса братство, посредством которого я и мы взаимно соответствуют друг другу, является условием приключения, его субъективной субстанцией. В анабасисе Целана, в неясном дрожании нерешительности, важно дать случиться слову в-одном («ensemble» [Mitsammen]), которое, ни в коем случае, не является условием, но всегда трудным итогом.
Резонно назвать аксиомой братства убеждение, что всякое коллективное предприятие предполагает идентификацию я в качестве мы или также интериоризацию в действии некоторого мы в качестве субстанции, захватывающей я. В Анабасисе Перс создает странствующее братство, он может придать цену поэтическому тождеству как некоторому «сами мы (Цвет человека)» и некоторому алчущая молния мне назначает эти провинции на Западе. Он может свободно обращаться между восклицанием В такт нашим сердцам там было столько изведано утрат! и вопросом Что дал мне мир, кроме волненья трав? «Братство» обозначает равноценность субъектов единственного и множественного числа. и со всей уверенностью можно сказать, что век более всего желал братства, до того как рухнуть в конкурентный индивидуализм.
Сен-Жон Перс поэтическим вымыслом выводит на сцену то, что аксиома братства годится лишь для настоящего похождения, для безрассудного исторического предприятия, и субъект этого предприятия создается именно как братство, как случаемость умножения я и превращения мы в единицу. Поэтому Анабасис рассказывает о победоносном кавалерийском переходе по высоким нагорьям легенды.
Однако вместе с тем понятие братства усложняется. Каков протокол установления границ мы? Кавалькада в этой воображаемой Монголии должна, очевидно, противостоять превратностям судьбы, должна изобрести своего врага. Я расширяется до мы только на подступах войны, и поэтому одного лишь странствия недостаточно. Хвала путнику на желтом ветру приобретает смысл лишь в заключительной формуле нашего текста: Великий принцип насилия повелевал у нас. насилие становится необходимой рамкой странствия. Для того чтобы блуждание стало эквивалентом великих историй селевкидских, нужно прислушаться к свисту пращей. И еще лучше: принцип познания и тяжбы (толкованьям преданная земля) пригоден лишь вкупе с хвалой вражде (ненависти пели зачастую синицами). А улики полнейшей свободы, пути земные и страна лугов беспамятных, не обходятся без величайшего деспотизма (главенство над всеми знаками земли). Зверство является одним из ресурсов странствия, необходимым эпизодом анабасиса, на что указывает множество прочих эпизодов поэмы, например: И улетает белье, как проповедник, растерзанный в клочки.
Братство как равноценность я и мы, свирепость, присущая странствию, взаимообусловленность блуждания и диктата — таковы мотивы века, звучащие в анабасисе.
2. Все это дублируется вопрошанием о цели, сомнением в смысле, скажем прямо, каким-то нигилизмом, который стремится быть беспристрастным. В подобных похождениях совершенно недвусмысленно присутствует ничем не занятое сознание: В такт нашим сердцам там было столько изведано утрат! Пункт назначения анабасиса — некоторый отрицательный вымысел. Целью становится место, где знаки пространства и времени упразднены: с одной стороны, это великая страна лугов беспамятных, с другой — год без дружб и годовщин.
Именно нигилизм и лежит в основе соответствия церемонной поэзии Перса и осознания веком себя самого как порыва чистой свирепости, как движения, исход которого неясен. Субъект представляет себя как блуждание, и представляет это блуждание ценным самим по себе. То, что номадическое блуждание, как говорит Перс, становится принципом самого сердца человека даже в своем отсутствии является прекрасной географической и страннической метафорой эпохи, прославившейся своей незаботой о безопасности.
Стоит задуматься, почему в разгар века повторяющиеся разочарования отнюдь не подрывают захватывающую мощь движения. Ведь нам нелегко это понять, потому что сегодня принято подписывать дорогостоящие страховки от любого разочарования, будь то даже от нескольких капель дождя во время летнего отдыха. А бойцы века в политике, в искусстве, в науке или отдавшие себя любой другой страсти думают, что человек сбывается не как полнота или результат, но как отсутствие самого себя, как выдирание (мучительное лишение) того, что ты есть, и именно такое изъятие и есть принцип величия приключения. Перс поэтизирует связь между обязательством величия и беспредметностью блуждания, поэтому он принадлежит веку.
ХХ-й — это не программный век, каким был ХIХ-й. Это не век обетования. Заранее признано, что обет сдержан не будет, что программа невыполнима, поскольку лишь движение есть источник величия. Сен-Жон Перс находит благородные воплощения такого возврата сердца человека к победной ценности отрицания себя, он провозглашает поэтическую ценность самого отлучения себя независимо ни от какого назначения. нужно развязаться, положить конец всем узам и развязанным отлучить себя.
Именно в этом направлении век был гораздо глубже погружен в марксизм, чем то полагал, — он исповедовал Маркса, родственного Ницше, Маркса, возвещающего в «Манифесте» конец всех прежних обычаев, то есть конец прежних уз преданности и постоянства. Опасная сила Капитала в том, что он растворяет наиболее сакральные договоры, самые памятные союзы в ледяной воде эгоистического расчета. Капитал заявляет о конце цивилизации, основанной на узах. И по ту сторону исключительно негативной силы Капитала ХХ век ищет порядок без уз, власть развязной совместности, чтобы восстановить человечество как подлинную власть созидания. Отсюда и ключевые слова Перса: насилие, лишения, скитания.
При помощи изысканных выражений для узкого круга знатоков поэту удается уловить это нигилистское, но созидательное стремление исключительного порядка скитания, братства без назначения, чистого движения. Таковы беспарные животные или вероломство небес по отношению к земле. Единственными спутниками человека в величии являются ураганы высокие, по земле бегущие. Подобное стремление резюмировано в восхитительном оксюмороне законов бродячих.
3. И наконец, особенно темным для сегодняшнего читателя предстает утверждение, что величие номада выше счастья, вплоть до сомнения в ценности счастья вообще. Выражение холощеные слова счастья (отсылающие нас к процедуре кастрации лошадей) указывает, что для человека анабасиса даже в языке наваждение счастья ущербно. И поэтому против слов счастья поэт призывает «поднять бич». Для нас, утомленных гедонистов конца века, утрачивающего всякое величие, — такой призыв звучит как провокация.
Активный, грубый, террористический нигилизм века, дающий знать о себе даже в высокой поэзии нашего посла, гораздо ближе Канту, чем теперешняя пара удовлетворения и милосердия. Поскольку он полагает, что стремление к счастью препятствует величию. И для того, чтобы предпринять кочевое похождение, вытканное огнями и зорями, чтобы пролить немного света в потемки разума, нужно уметь довольствоваться волнением трав и размышлять над утратой — быть может, не без участия недозволенно пьянящей силы семени индийского луносемянника — по вечерам.
А что же анабасис, написанный сорока годами позже? Что говорит нам Пауль Целан после нацизма и войны?
На вопрос кто говорит? стихотворение отвечает: Никто. Есть один только голос, анонимная речь, которую улавливает стихотворение. Почти тогда же Беккет начинает роман «собеседник» фразой: «Голос в темноте». Перс уравнивал я и мы, а в стихотворении Целана, как и в прозе Беккета, нет больше ни я, ни мы, есть голос, пытающийся наметить путь. Короткими, почти молчащими строками стихотворения, весьма далекого от размашистого стиля Перса, этот голос, эта запись голоса, прошепчет нам, что есть анабасис как восхождение вспять, как точный перевод глагола. В самом начале стихотворения этот голос скажет нам об анабасисе хрупкими и почти невозможными сочетаниями: тесно меж стен вписанное, неудобоходимое-истинное, светлое-сердцем Сбылось.
Так нашептывается о возможности пути, пути небеспросветного (светлое-сердцем). Для Сен-Жон Перса путь — это открытие пространства, как он говорит в начале Анабасиса: Во власть наших коней отданная, земля, без миндальных деревьев. Проблемы пути нет. Целан, напротив, спрашивает: Есть ли путь? И отвечает, что, без сомнения, да, есть какой-то путь, тесно меж стен вписанный, но если он и истинен и в той мере как он истинен, он неудобоходим.
Это уже другой оборот века. Эпический нигилизм в своем нацистском обличии создал лишь бойню. С этих пор невозможно пребывать в эпическом элементе по природе, как будто бы ничего не было. но если не придерживаться непосредственного эпического толкования, что тогда анабасис? Как осуществить восхождение вспять?
Целан вводит здесь игру морского измерения, Море! Море! греков. Анабасис начинается с зова моря. В некоторых портах существуют сигнальные мачты звукового оповещения о начале отлива. Звук этих бакенов, свето-колокольные тоны, тоскливые звуки стонущих бакенов составляют портовый момент зова, сигнала. В анабасисе это момент опасности и красоты.
Значение этого образа — в утверждении, что анабасис нуждается в другом, в голосе другого. Принимая зов, его загадку, Целан порывает с темой пустого и самодостаточного блуждания. нечто с необходимостью должно быть встречено. Морские образы служат знаками инаковости. Можно сказать, что на смену теме братства приходит тема инаковости. Там, где ценилось насилие братства, появляется минимальное различие дыхания другого, зов бакена, донн-, динн-, одинн-, напоминающий мотет Моцарта (unde suspirat cor), как бы доказывая, что едва слышимый зов полон самого высокого значения.
Построение выполнено таким образом, чтобы в-и-посредством из-изнывающих, взывающих звуков зова прийти к тому наши, которое не есть больше мы эпопеи. Как сделать нашей разность, вот вопрос Целана. Различие заставляет услышать о себе, и задача в том, чтобы превратить его в наше. В той мере как это удается, существует анабасис. Нет ни интериоризации, ни апроприации. Нет субстантивации мы в качестве я. Есть чистый зов, ничтожное различие, которое необходимо сделать нашим просто потому, что мы его встретили.
Трудность пред-стает (это верно для любого анабасиса), — и ничто не предшествует этой попытке, ничто ее не подготавливает. Мы ни у себя, ни
Его движением создается не
Анабасис — это наступание в-одном путем становления нашим едва различимого зова мы, которое не есть я.
Итак, век становится свидетелем глубокого преобразования трактовки мы. Существовало мы братства, которое Сартр в «Критике диалектического разума», опубликованной, кстати, в годы, когда Целан пишет Анабасис, — квалифицирует как Братство-Террор. Это мы, которое видит я своим идеалом, и его единственная инаковость — это инаковость противника. Мир бросился в такое мы, скитающееся и победоносное. Подобный образ осуществлен в велеречивой риторике наемников-номадов Сен-Жон Перса. Такое мы-я ценно само по себе, и ему нет нужды ни в каком предназначении. У Целана мы не подчинено идеалу я, поскольку в него включено различие, как едва различимый зов. Мы — это случайная величина анабасиса, восходящего вне
70-е годы века оставили в наследство вопрос: что такое мы, не попадающее под идеал я, мы, не претендующее быть единым субъектом? Не стоит делать заключения о конце всякой коллективной жизни, о простом исчезновении мы. Мы отказываемся вторить деятелям Реставрации: есть лишь конкурирующие в стремлении к счастью индивиды, а всякое активное братство подозрительно.
Целан — приверженец понятия в-одном. Люди, собравшиеся вместе, в-одном, скандировали этот странный лозунг в декабре 1995 [2]. По крайней мере никакого другого, ставшего изобретением и способного именовать анабасис демонстрантов, назвать нельзя. И это не был бесполезный лозунг — в маленьких спокойных городках, таких, как Руан, более половины всего населения неоднократно выходило на демонстрации, чтобы заявить только: Все в-одном, все в-одном, да-да. И все, что сегодня еще уцелело от разложения, задается вопросом, откуда могло возникнуть мы, не подверженное идеалу спаявшегося и воинствующего я, возглавлявшего шествие века, — но мы, свободно несущее свою собственную внутреннюю разнородность и при этом не распадающееся. В мирную, а не военную пору что значит мы? Как перейти от братского мы эпопеи к разнородной совместности мы в-одном, не поддаваясь соблазну думать, что мы едино? Этот вопрос насущен и для меня.
Примечания
[1] Т.е в Министерстве иностранных дел Франции (прим. пер.).
[2] Ноябрь-декабрь 1995 г. во Франции — пик общенационального протестного движения против «Плана Жюппе», предполагавшего значительное сокращение государственных социальных программ во исполнение Маастрихтских договоренностей 1993 года. (Прим. ред)
