Морис Бланшо. Внешнее, ночь
[Фрагмент книги Мориса Бланшо «Пространство литературы», пер.с франц. Б.М. Скуратова, М.: «Логос», 2002]
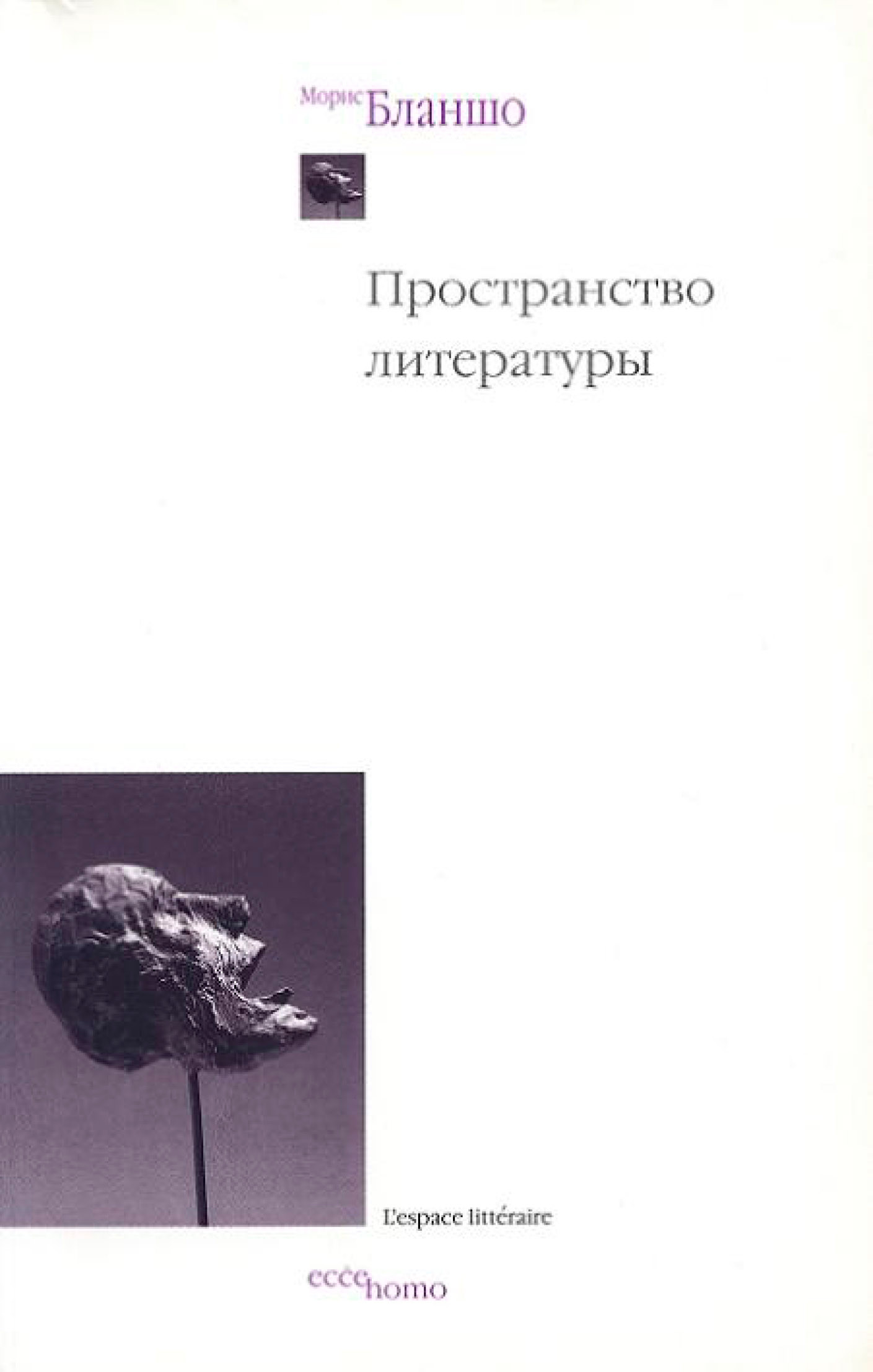
Творчество притягивает того, кто посвятил себя ему настолько, что оно может противостоять невозможности. Это сугубо ночной опыт, совпадающий с опытом ночи.
В ночи все исчезает. Такова первая ночь. Тут подступают отсутствие, безмолвие, покой, ночь. Тут смерть стирает портрет Александра, тут спящий не знает, что он спит, тут умирающий идет навстречу подлинному умиранию, тут завершается и свершается слово — в безмолвной глубине, ручающейся за него как за свой смысл.
Но когда все исчезает в ночи, возникает «все исчезло». Это другая ночь. Ночь есть пришествие «все исчезло». Она — то, что предощущается, когда грезы заменяют сон, когда мертвые попадают в глубину ночи, когда ночь появляется в исчезнувших. На эту пустую ночь намекают привидения, призраки и грезы. Это ночь Юнга; в ней тьма не кажется достаточно темной, а смерть никогда не предстает достаточно мертвой. В ночи является само явление ночи, и странность проистекает не только от
Первая ночь гостеприимна. Новалис обращается к ней с гимнами. О ней можно сказать: в ночи, как если бы она обладала глубиной. Мы входим в ночь и успокаиваемся в ней через сон и через смерть.
Но другая ночь не принимает нас, она не открывается. В ней мы всегда находимся снаружи. Она еще и не закрывается — она не большой Замок, близкий, но недоступный, куда мы не можем проникнуть, так как вход охраняется. Эта ночь неприступна, потому что получить доступ в нее означает слиться с внешним, остаться вне ее и навсегда утратить возможность из нее выйти.
Эта ночь никогда не бывает чистой ночью. По существу, в ней есть примеси. Она не тот прекрасный алмаз пустоты, который созерцает Малларме по ту сторону неба, как небо поэзии. Она не истинная ночь, она — ночь без истины, и, между тем, не лжет, не двулична; она не замешательство, где блуждает рассудок, она не обманывает, но ею нельзя злоупотреблять.
В ночи мы находим смерть, мы досягаем забвения. Но эта другая ночь — смерть, которой мы не находим, забвение, которое забывается, — это воспоминание без покоя под сенью забвения.
Лечь рядом с Никитой
В ночи умирание, как и засыпание, это еще и некий подарок мира, некий ресурс дня: это прекрасный предел, когда исполняется нечто, это момент свершения, совершенство. Всякий человек стремится умереть в мире, хотел бы умереть из мира и ради него. В такой перспективе умирать означает идти навстречу свободе, избавляющей меня от бытия, — навстречу решительному расставанию, позволяющему мне избежать бытия, бросая ему вызов, борясь, действуя и трудясь, и преодолеть самого себя по направлению к миру других. Я есмь, я есмь лишь потому, что я превратил небытие в свою силу; потому, что я могу не быть. И тогда умирание становится словом, выражающим эту силу, пониманием этого небытия и в этом понимании — утверждением того, что другие приходят ко мне через смерть; утверждением еще и того, что свобода ведет к смерти, поддерживает меня до самой смерти, превращает смерть в мою свободную смерть. Как если бы в конце концов я слился с миром нынешнего дня и уже завершенным. Значит, умирать означает охватывать целостность времени и превращать время в целое, это временной экстаз: мы ни когда не умираем сейчас, мы всегда умираем впоследствии, в будущем; в будущем, которое никогда не бывает в настоящем, которое может наступить, лишь когда все свершится, — а когда все свершится, настоящего больше не будет, а будущее снова будет прошлым. Этот скачок, посредством коего прошлое воссоединяется с будущим, перескакивая через всякое настоящее, есть смысл человеческой смерти, проникнутой человечностью.
Эта перспектива — не только иллюзия упования; она заключена в нашей жизни и подобна истине нашей смерти, по крайней мере, той первой смерти, какую мы находим в ночи. Мы хотим умереть от отрицания, которое работает в работе, которое безмолвствует в наших речах и наделяет смыслом наш голос, которое превращает мир в будущее и в осуществление мира. Может быть, человек умирает и одиноким, но одиночество его смерти весьма непохоже на одиночество одиноко живущего. Оно странным образом исполнено пророчеств. Это (в
Брехунов, богатый купец, всегда преуспевавший в жизни, не в силах поверить, что ему вот-вот суждено умереть, так как он заблудился вечером в русских снегах. «Это невозможно». Он садится на лошадь, оставляет сани и своего работника Никиту, уже на три четверти замерзшего. Как всегда, Брехунов решителен и предприимчив: он продвигается вперед. Но эти действия уже ничего не меняют; он движется наудачу, и поездка никуда не ведет, это блуждание, подобно лабиринту увлекающее его в пространство, где каждый шаг вперед — одновременно шаг назад, — или же он вращается по кругу, повинуясь его фатальности. Отправившись наудачу, купец, стало быть, «наудачу» возвращается к саням, где Никита, в рваной одежонке и не устраивающий столько церемоний, чтобы умереть, погружается в смертный холод. «Василий Андреич (Брехунов — прим. пер.), — повествует Толстой, — с полминуты постоял молча, потом вдруг с той же решительностью, с которой он ударял по рукам при выгодной покупке, он отступил шаг назад, засучил рукава шубы и обеими руками принялся выгребать снег с Никиты и из саней».Внешне ничего не изменилось: он — по-прежнему деятельный купец, человек решительный и предприимчивый, ему всегда есть что делать, и ему всегда и во всем сопутствует успех. «Мы вот как», — говорит этот самодовольный человек; да-да, он всегда лучший и принадлежит к классу лучших, он еще как жив. Но в этот миг что-то происходит. Пока его ладонь движется взад-вперед по окоченевшему телу, что-то ломается; то, границы чего он нарушил, — уже не происходящее здесь и теперь: к его удивлению, это низвергает его в беспредельное. «Но дальше он, к своему великому удивлению, не мог говорить, потому что слезы ему выступили на глаза, а нижняя челюсть запрыгала. Он перестал говорить и только глотал то, что подступало ему к горлу.« Настращался я, видно ослаб вовсе», — подумал он на себя. Но слабость эта не только не была ему неприятна, но доставляла ему какую-то особенную, не испытанную еще никогда радость.» Впоследствии его найдут мертвым, лежащим рядом с Никитой, и крепко его обнявшим.
С этой точки зрения, умирать всегда означает стремиться лечь рядом с Никитой, распростершись среди людей, подобных Никите, обнимая их всех и не разжимая этих объятий ни на секунду. Но то, что предстает здесь еще возвратом к добродетельной жизни, бескрайней широтой души и великим порывом к человеческому братству, между тем, вовсе сводится к таковому, даже для Толстого. Умирать не означает становиться ни хорошим хозяином, ни даже собственным работником, здесь нет нравственного продвижения. Смерть Брехунова не говорит нам ничего хорошего,а его поступок, эмоция, повинуясь коей он внезапно лег подле окоченевшего тела, — этот жест тоже ничего не говорит; он прост и естественен, он не человечный, а неотвратимый: это то, что должно было произойти, и купец столь же не мог от него уклониться, сколь не в силах был избежать умирания. Лечь подле Никиты — вот непостижимое и необходимое движение, исторгаемое из нас смертью.
Ночной жест. Он не принадлежит к категории обычных действий, но и необычным действием его не назовешь, с его помощью ничего не делается; намерение, поначалу побудившее Брехунова действовать — согреть Никиту, согреться самому под солнцем Добра — улетучилось; жест без цели, без смысла; жест без реальности. «Он понимает, что это смерть, и нисколько не огорчается и этим».* Брехунов, человек решительный и предприимчивый, даже он в силах лечь лишь для того, чтобы умереть; сама смерть внезапно сгибает это крепкое тело и укладывает его посреди бессонной ночи, а эта ночь не страшит его, он не отгораживается от нее, не уходит в себя, он радостно бросается ей навстречу. Только вот ложась посреди ночи, он
Западня ночи
Первая ночь — это еще и созидание дня. Именно день творит ночь, воздвигается в ночи: ночь говорит лишь о дне, предвосхищает его, хранит в своих недрах. Все заканчивается в ночи, потому-то день и существует. День привязан к ночи, поскольку сам он только оттого и день, что начинается и заканчивается. В этом его справедливость: он есть начало и конец. День приходит, день завершается, и это делает его неутомимым, трудолюбивым и творческим; это превращает день в непрестанные дневные труды. Чем дальше простирается день с его надменными хлопотами вселенского становления, тем больше ночная стихия подвергается риску отступить в сам свет, тем больше то, что нас освещает, принадлежит ночи, пронизано ночной неопределенностью и чрезмерностью.
Таков существенный риск, таково одно из возможных дневных решений. Есть несколько решений. Либо принять ночь в качестве предела того, что не следует пересекать, и тогда ночь принимается и признается, но лишь как предел и необходимость предела: переходить через него не следует. Так говорит греческое чувство меры. Либо ночь есть то, что суждено рассеять дню, и тогда день трудится исключительно под властью дня, он — покорение самого себя и тяжелый труд над самим собой, день стремится к беспредельному, хотя при выполнении своих задач продвигается вперед лишь шаг за шагом и строго придерживается пределов и границ. Так говорит разум, триумф света, попросту разгоняющего тьму. Либо же ночь — то, что день хочет не рассеять, а присвоить, и тогда ночь становится столь важной, что ее надо не терять, а хранить, — и принимать уже не как предел, но в самой себе, в день должна перейти ночь; ночь, которая превратилась в день, делает свет более обильным и дает ясность; вместо поверхностного мерцания — сияние из глубины. Тогда день длится весь день и всю ночь — великое обетование диалектического движения.
Когда противопоставляют ночь и день, и свершающиеся в них движения, то
Но другая ночь — всегда другая. Полагают, что ее слышат и улавливают только днем. Днем она — тайна, которую можно нарушить; смутное, которое дожидается снятия покрова. Только день может испытать страсть к ночи. Только днем смерть может быть желанной, задуманной, решенной: она досягаема. Только днем другая ночь открывается как любовь, нарушающая все связи,стремящаяся к концу и соединению с бездной. Но ночью она — то, с чем нам не соединиться; повторение, которое не кончается; сытость, при которой ничего нет, мерцание того, в чем нет ни основания, ни глубины.
Западня второй ночи — это первая ночь, куда мы можем проникнуть; куда мы входим, разумеется, из страха, но где страх скрывает вас и где находит себе приют неуверенность. В первой ночи кажется, будто, продвигаясь вперед, мы обретем истину ночи, — будто, продвигаясь все дальше, мы придем к
Всегда есть миг, когда в ночи зверь должен слушать другого зверя. Такова другая ночь. И это вовсе не ужасает, здесь нет ничего необычайного — ничего общего с призраками и экстазами — это всего лишь неслышный шелест, шум, едва отличаемый от тишины, сыплющийся песок безмолвия. И даже не эта всего лишь шум труда; копание и возведение земляных насыпей сначала чередуются, но стоит это осознать, как труд не прекратится. У рассказа Кафки нет конца. Первая его фраза открыта этому бесконечному движению: «Все продолжалось без всякого изменения». Один из издателей добавляет, что здесь не хватает всего нескольких страниц, описывающих решительную схватку, в которой потерпит поражение герой рассказа. Вот что значит скверно прочесть. Тут не может быть решительной схватки: в такой схватке нет решительности, да и схватки тоже нет — есть лишь ожидание,приближение, подозрение, превратности угрозы, становящейся все более угрожающей, но бесконечной, но нерешительной, но вся она содержится в собственной нерешительности. То, что зверь предощущает вдали, нечто чудовищное, что вечно движется ему навстречу и вечно его терзает, есть он сам — и если бы зверь смог бы когда-нибудь очутиться в его присутствии, то встретил бы он собственное отсутствие, самого себя, но себя, ставшего другим, кого он не узнает и не встретит. Другая ночь — всегда другая, и тот, кто слушает ее, становится другим, а тот, кто к ней приближается, отдаляется от себя; он уже не приближается к ней, а от нее отвращается, ходит туда-сюда. Тот, кто, войдя в первую ночь, бесстрашно стремится дойти до ее самой глубинной сокровенности, до сути, — в определенный момент слышит другую ночь, слышит самого себя, слышит вечно раздающееся эхо собственных шагов, шагов к безмолвию; но эхо отражает для него безмолвие как шепчущую безмерность — в пустоту, а пустота теперь превращается в присутствие того, что идет ему навстречу.
Предощущающий приближение другой ночи, предощущает, что он приближается к сердцу ночи, существенной ночи, которой он домогается. И, несомненно, «в это мгновение» он предается несущественному и утрачивает всяческую на это возможность. Так, стало быть, этого мгновения ему и следовало бы избегать подобно тому, как путнику рекомендуется уклоняться от мест, где пустыня предлагает ему соблазны миражей. Впрочем, это благоразумие здесь ни к чему не существует точного мгновения, когда мы переходим от ночи к другой ночи; нет границы, где можно остановиться и вернуться назад. Полночь никогда не наступает в полночь. Полночь наступает, когда брошены игральные кости, но игральные кости можно бросить лишь в Полночь.
Стало быть, надо отвратиться от первой ночи, это, по меньшей мере, возможно; надо жить среди дня и работать ради дня. Да, надо. Но работать ради дня значит находить, в конце концов, ночь — и тогда это значит превращать ночь в дневное творчество, превращать ее в труд, в обиталище, это значит рыть нору и сооружать нору; это значит открывать ночь другой ночи.
Риск предаться несущественному сам существен. Избегать его означает следовать за ним по пятам, и тогда он становится тенью, которая всегда следует за вами и всегда идет впереди вас. Стремиться к нему с методичной решительностью тоже означает недопонимать его. Если же о нем не ведать, то жизнь становится легче, а задачи — более неоспоримыми, но в неведении он все еще скрывается, а забвение — это глубина воспоминания о нем. И кто его предощущает, уже не может ускользнуть от него. Кто приблизился к нему — даже если он узнал в нем риск предаться несущественному — видит в этом приближении существенное, жертвует ему всю истину, все серьезное, чувствуя себя, между тем, с ними связанными.
Отчего так? Мощь ли это заблуждения? Или чары ночи? Но ведь оно бессильна, оно не зовет, а если и влечет, то по небрежению. Тот, кто претендует на зависимость от неодолимого призвания, зависит лишь от собственной слабости; он именует неодолимым то, что преодолевать здесь ему решительно нечего, а призванием — то, что его никуда не зовет, — просто без этой претензии на зависимость ему не на что опереть собственное небытие. Так отчего же так? Почему одни прибегают к творчеству, чтобы избежать этого риска, — не для того, чтобы ответить на «вдохновение», а чтобы ускользнуть от него, выстраивая свое произведение подобно норе, куда они стремятся под сень пустоты и где они воздвигают сооружения не иначе, как посредством рытья, создавая вокруг себя пустоту? И почему другие, столько других, зная, что они предают мир и истину труда, обуреваемы лишь одной заботой: заблуждаться, воображая, что они служат миру, откуда произошли, и еще миру, где они ищут безопасность и надежду — и вот, они предают не только эмоцию подлинного труда; они предают заблуждение собственной праздности с дурной совестью, каковую они заглушают почестями, услугами и чувством того, что они
Отчего так? Зачем так поступать? Для чего это безнадежное движение к не имеющему значения?
