Слепок циклона

В 2010 году, готовя книгу Аркадия для издания в «Новом литературном обозрении», я предлагал, помимо новых стихотворений, включить в нее и «Ужин с приветливыми богами». Аркадий отказался, ссылаясь на величину и давность текста. Я пытался его переубедить, говоря, что «Ужин…» — поворотная, программная вещь, одна из моих любимейших, и будет жаль, если она останется недоступной читателю (первый номер машинописного «Митиного журнала», в котором она напечатана, не оцифрован полностью). Но он был непреклонен. В результате в «Тавтологию», которой суждено было стать последним прижизненным изданием Аркадия, «Ужин…» не вошел. Подробнее о причинах его непреклонности я скажу в конце, а сейчас разверну свою аргументацию.
Большая композиция, или «поэма» (как обозначено в редакторском подзаголовке), «Ужин с приветливыми богами» состоит из девятнадцати пронумерованных частей; это тридцать восемь машинописных страниц с одинарным интервалом. (В скобках замечу, что у меня хранятся перепечатки некоторых самиздатских публикаций Аркадия, сделанные на рубеже 1980–1990-х, в докомпьютерную эпоху; среди них и «Ужин с приветливыми богами». Тогда эта вещь меня просто ошеломила, своей архитектоникой и размахом она резко выделялась на фоне других его больших стихотворных циклов, таких как «Сумма элегий», «ЭРОΣИЯ» или опубликованное в сборнике «Круг» «Великое однообразие любви». Поражало и чисто графическое — визуальное — решение отдельных фрагментов текста, прежде всего «прозаических», набранных узкой колонкой и оставляющих большие пустые куски по правому и левому полю.) Под названием, в правом нижнем углу страницы идет справка об авторе, заслуживающая того, чтобы быть воспроизведенной здесь полностью: «Аркадий Трофимович Драгомощенко родился 3.02.46 в г. Потсдаме. До Ленинграда, в котором живет с 1968 года, жил в различных городах, занимался разным, в том числе и литературой. Начал писать в 1963 году. Написано следующее: Сумма описаний (стихи 71–79 гг.), Тень черепахи (книга замечаний, 75 г.), Расположение в домах и деревьях (роман, 78 г.), В пределах песка (стихи 82–83 гг.), Реверсия (стихи, 84 г.), Пагубная страсть к театру (пьеса, 81 г.), Хвост дракона (предположение жанра, 83–84 гг.), Несколько элегий на написание кухонной элегии (стихи, 85 г.)… да

Открывается композиция эпиграфом из Ролана Барта: «…Я, которое приступает к тексту, само представляет собой множество других текстов из бесконечных кодов, чье начало теряется». Очевидно, это вольный перевод из знаменитой работы Барта «S/Z» (1970), посвященной множественным способам прочтения новеллы Бальзака «Сарразин». В редакции Георгия Косикова эта фраза, к слову, из главы с симптоматичным названием «Чтение, забывание», выглядит так: «Мое „я“, примеривающееся к тексту, само уже есть воплощенное множество других текстов, бесконечных или, точнее, утраченных (утративших следы собственного происхождения) кодов». В известном смысле, «Ужин…» представляет собой поэтический ответ на это ключевое постструктуралистское положение, радикализирующее и «семиологизирующее» «диалогическое слово» Бахтина, воспринятого французскими теоретиками, в том числе и Бартом, главным образом через Юлию Кристеву. Причем ответ во многом полемический. Так, в первой части читаем:
Радость моста,
Назвать себя, других беспечно минуя, утверждающих,
Что ты попросту сумма высказываний,
принадлежащих другим,
Иными губами вылеплен,
Завихренье ростка и разбитая вспышка.
(Небольшое отступление. На моей памяти Аркадий неизменно отзывался о Барте с восхищением. Только один пример. Когда вышел очередной номер «Комментариев» с фрагментами «Фрагментов любовной речи» в переводе Виктора Лапицкого, Аркадий устроил у себя дома что-то вроде приема в честь этого события; в
Но вернемся к поэме, которую я предлагаю понимать не как жанровое определение, а в смысле Алена Бадью, различающего матему, поэму, политику и любовь как четыре истинностные процедуры. Судя по датировкам писем от Б.О. (Бориса Останина), Л. (Лин Хеджинян) и М.М. (Майкла Молнара), включенным в текст на правах своего рода перекрестного (мета)комментария, а также по упоминанию «суши лета Господня 1984 года» в четвертой части, «Ужин…» создавался в 1984 году. Это время интенсивной переписки с Лин Хеджинян, благодаря которой Аркадий начинает как раз тогда получать посылки с англоязычными книгами и журналами. По-видимому, «S/Z» он читал в английском переводе, отсюда, возможно, и неточность эпиграфа. (Перевод Ричарда Миллера звучит следующим образом: «This „I“ which approaches the text is already itself a plurality of other texts, of codes which are infinite or, more precisely, lost (whose origin is lost)» .) С другой стороны, нельзя не отметить, что и приведенный поэтический фрагмент невольно или сознательно искажает мысль Барта, «утверждающего, что ты попросту сумма высказываний, принадлежащих другим». Как бы то ни было, этот пассаж — характерный пример «энергии заблуждения», тех misreading и misrecognition (в данном случае, Барта и Бахтина), что отличают творческий метод Драгомощенко, чьи поздние вещи невозможно адекватно понять, не учитывая его знакомство и активный диалог с лингвистической философией, постструктурализмом и поэтами американской языковой школы.
(Опять же, не знаю, перечитывал ли Аркадий русскую версию «S/Z», опубликованную «Ад Маргинем» в 1994 году, но
В эссе «Конспект-контекст», первый набросок которого относится к 1985 году и которое дает ключи к пониманию методологического поворота, свершающегося в «Ужине….», он уже берет Бахтина в союзники, парадоксальным образом скрещивая его концепцию катастрофы с даосизмом и древними ритуальными практиками: «Совершенное действие не оставляет следов… Поэзия — несовершенство per se. Несвершаемость как таковая. Утешения нет. Как не существует слова. Переход через „ничто“ в другое: „Катастрофа не есть завершение. Это кульминация в столкновении и борьбе точек зрения (равноправных сознаний и их миров). Катастрофа не дает им разрешения, а, напротив, раскрывает их неразрешимость в земных условиях, она сметает их не разрешив“ (Бахтин). „Моцарт и Сальери“ Пушкина — идиома, слепок циклона, нерасторжимое единство дисконтинуальности, воз-вращающего идею жертвования, разделения, обретения значения в его же ускользании. „Существует ли речь?“ (Чжуан-цзы)» . Эта цитата, а точнее, констелляция множества контаминаций, включая и отсылку к теории жертвоприношения Жоржа Батая, — лучший комментарий к тому поэтическому tour de force, каким является «Ужин с приветливыми богами», концептуальное ядро которого составляет эпизод автокатастрофы «на перекрестке тандавы»: в ней погибает, сгорая в пламени, шофер грузовика с цистерной солярки, предотвративший наезд на двух перебегавших дорогу детей.
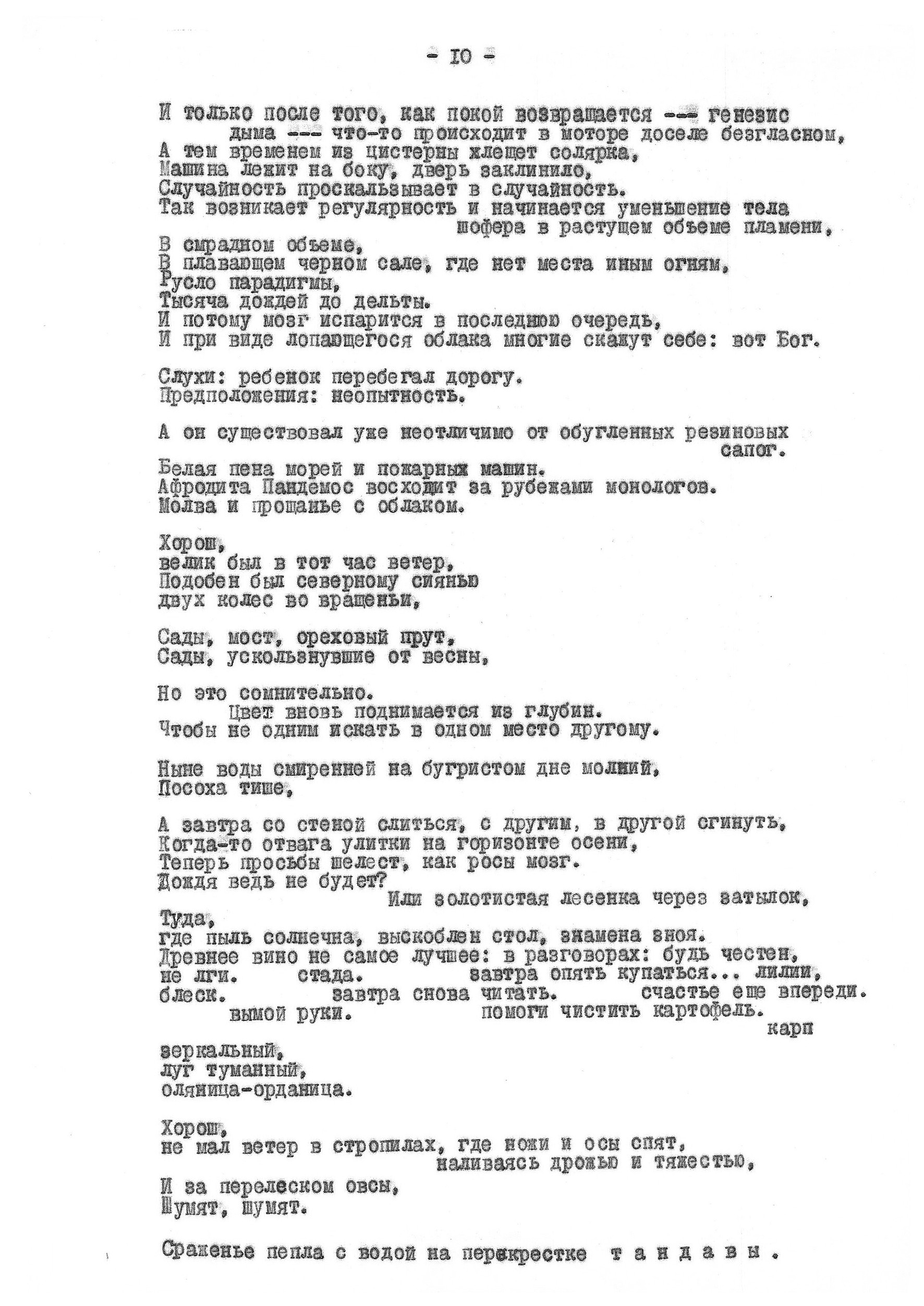
Если же говорить об архитектуре «поэмы», то это именно столкновение разных точек зрения и разных миров, многоголосие равноправных дискурсов, нерасторжимое единство дисконтинуальности, «слепок циклона», втягивающий в свой вихрь пейзажи Винницы, набережные Ленинграда, детские воспоминания, размышления о природе поэзии, времени, воображения, разговоры с друзьями, визионерские и онейрические экскурсы, феноменологию, лингвистику, метафизику и т. д. Ничего близкого такой полифонии, соединяющей лирический модус с эпическим, документальным (письма) и нарративным (эпизод автокатастрофы, похороны дельтаплана), в предшествующих «Ужину…» произведениях Аркадия не встречается. Не встречаются и стремительные, внезапные смены модальности высказывания в рамках одного, относительно короткого текстового сегмента, и демонстративное чередование личных и безличных конструкций, проблематизирующее позицию субъекта; все это станет конститутивной чертой его зрелой поэтики. Вот яркий пример из первой части — экспозиции, в свернутом виде (в духе «Зеркала» Тарковского) содержащей все мотивы «поэмы», включая «облако», «молоко», «огонь», «туман», «след», «письмо», «дорогу» и др.:
Едва ли, на облако глядя, о виноградном труде.
Я знаю, тебе у меня не понравится, в четыре утра
произносит Останин,
Затекает низина белым огнем,
Это туманы.
Ты часто пишешь о них.
Следы оживают, сочась, как часы. Молоко готово убить,
Если на миг взгляд отвести от банки,
с которой идешь по дороге,
в руке письмо, где о воздушных змеях,
О змеях земли.
Итак, «Ужин с приветливыми богами» — это узловой, переходный текст, «мост», переброшенный от ранней, относительно конвенциональной, «прозрачной» поэтики — к более рефлексивной, синтаксически усложненной и теоретически нагруженной. Трудно представить нечто подобное эпиграфу из Барта или словосочетанию «русло парадигмы» в стихах Драгомощенко более раннего периода. Это полифоническое масштабное произведение, может быть, самое полифоническое и масштабное во всем корпусе текстов Аркадия; позднее по его модели будут строиться такие жанрово гетерогенные, синтетические композиции и циклы, как «Сумма элегий», «Острова сирен», «Настурция как реальность». (Тут необходимо уточнение. Исследователи обычно как раз «Настурцию…» считают программным текстом, с которого начинается «зрелый» Драгомощенко. У такого подхода есть свои резоны — сам автор высоко ее ценил и регулярно перепечатывал, она была быстро, почти синхронно, переведена на английский, часто цитировалась и комментировалась. Однако структурные принципы, и прежде всего соединение поэтического и прозаического, лирического и «научного» регистров, резкие стилистические и лексические столкновения и сдвиги, переплетение автобиографических мотивов с отвлеченными понятиями из западной и восточной философских традиций, впервые были опробованы именно в «Ужине с приветливыми богами».)
Но «переходностью» и даже «программностью» значение «Ужина…» отнюдь не исчерпывается. Это прецедентный текст не только для самого Драгомощенко, но и для всей русской и — шире — мировой поэзии. Его мощь, обязанная, не в последнюю очередь, глубоко эшелонированной саморефлексии и переосмыслению поэтического субъекта, превосходит панорамные вещи, центральные для постмодернистского поворота 1940–1950-х годов: «Оду Шарлю Фурье» Андре Бретона и «Патерсон» Уильяма Карлоса Уильямса, открывающие новые горизонты, главным образом, на путях синтеза различных дискурсов и типов высказывания. По своей радикальности «Ужин…» сопоставим, пожалуй, разве что с «Серой тетрадью» Александра Введенского.
Саморефлексия в поэме заслуживает более развернутого обсуждения, чем позволяет мне время. Ограничусь лишь несколькими цитатами и беглыми комментариями. Мотив множественности, несамотождественности «я», приступающего к тексту, наметившийся в первой части, подхватывается в следующих, переплетенный с вопросом о словах и вещах и их значениях, а также с осмыслением (возможности) акта высказывания в процессе самого письма. Важную роль при этом играет опыт видения-зримости и телесное, эротическое измерение этого опыта.
Из второй части:
Смотри же,
смотри.
Воспаренье земли не в тягость твари земной,
Вот только… что-то уходит — безымянности в безымянность —
Не в этом ли тайный союз вещей и значений вечно иных?
Вода на кругах,
Усердные,
Делим себя на множество местоимений,
Во фразе: «Я люблю тебя» не ты и не я. Жалом
равновесья отмечен узел стяженья,
Обоюдоострая свежесть глагола (как ветку сломать)
Срез неуследимого действия.
И далее, там же:
В текстах затеряно «я», но не утрачено, найдено
по птицам в неистовых временах перелетов,
приливов, отливов;
Время уже,
Клаустрофобия музыки,
Крошащееся по краям пламя и скалы.
Непримиримость их версий.
9-я часть (эротизм, телесность):
В разъятости печальное упование речи.
Только ладонью. — Он пишет. — В пустоте сквозняком,
Вкрапленьем природы иной. — Допуская неточности, пишет. —
Излучьем судьбы. Скрывая одно за другим, когда словари
осыпаются наземь листами.
Безучастно рассеять колодезный свет,
Расплести янтаря иней гортанный,
Чтобы лицо. — Остановка в письме. — Или слово какое…
Двоякость,
Как в разрывах трава…
Отметим мотив «разрывов», «прорех», «дыр», «зиянья воображенья» (с. 23), связанных одновременно с устройством алфавита, работой памяти и когнитивными процессами во всем зрелом творчестве Драгомощенко. Особую роль в этой констелляции играет материальность рта: дыры, зияния, ноля, ничто, из которого рождается все.
Напрямую о природе поэтического языка и его парадоксах речь идет в письмах Лин Хеджинян и Майкла Молнара, а также в «прозаических» кусках, набранных, однако, в столбик.
Наконец, 16-я часть представляет собой не что иное, как парафраз знаменитого мандельштамовского «Я слово позабыл, что я хотел сказать…». Это своего рода заключительная реплика в
Я слово вспомнил, в этом слове слово, как смысла западня,
отверсто было,
ветвясь
себя искало,
Становясь собою — не деревом,
не ветвью, не корою…
Здесь открывается тяжба о (само)референциальности (поэтического) языка, пронизывающая все позднейшие тексты Аркадия. В свернутом виде, на манер компьютерной программы, запускающей вирус, эта «мандельштамовская» часть содержит, а точнее генерирует, будущую — зрелую — поэтику АТД.
В полной мере все вышесказанное относится, строго говоря, только к журнальной версии 1985 года. Новая редакция, представленная в юбилейном выпуске «Митиного журнала» , является, по существу, другим текстом — заметно усеченным и дискурсивно куда более гомогенным. Известно, что Аркадий постоянно возвращался к своим прежним вещам, правил их и переделывал. Эти вторжения, нацеленные, в общем, на «засушивание», приведение высказывания к более аскетичной, строгой форме, не всегда, на мой взгляд, были удачными. Мне уже приходилось писать в связи с выходом «Описания» , в котором представлены новые варианты многих старых стихов, что при позднейшей редактуре изменениям, нередко безжалостным, подвергались не только «сентиментальные», «романтические» либо «наивные» (с высоты зрелого опыта) периоды, но и зачастую великолепно «бессвязные», «неправильные» куски, что явно противоречит авторской же установке на «обессмысливание» высказывания, приведение его к той зоне пустоты, или «ничто», где «даже язык беспомощен и лишен своей магической силы и предстает в грозной стихии своего изначального косноязычия» . Такие моменты «заборматывания», как бы засыпания наяву, в
Но и в таком, сокращенном виде, «Ужин с приветливыми богами», безусловно, сохраняет свое значение программного текста. Одно время я думал обозначить эту программу как «лингвистический поворот», имея в виду траекторию развития поэзии Аркадия после 1984 года, но сейчас полагаю, что это было бы упрощением. Сразу после «Ужина…» он пишет «Конспект-контекст», предельно сжатый трактат по поэтике, в котором импульс, заданный работой над «поэмой», выливается в головокружительную формулу-императив, схватывающую этос его письма: «Поэзия — „бесцельная“ трата языка, постоянное жертвование жертве. Возможно, здесь следует начать говорить о любви, иными словами, о реальности или вероятности откликнуться безначальному эхо: об ответственности».
Возвращаясь к причинам непреклонности Аркадия, рискну предположить, что в случае с переизданием «Ужина…» он столкнулся — или боялся столкнуться — с той же проблемой, что и в случае романа «Расположение среди домов и деревьев». В конце 1990-х он думал напечатать новую версию, но увяз в редактуре этого сложно устроенного, громадного текста (пусть и сокращенного в промежуточной версии 1980-х и получившего другое название — «Расположение в домах и деревьях»), отбросив в итоге саму идею публикации. Первоначальный вариант «поэмы» его, по-видимому, уже не устраивал, тогда как предварительная правка, очевидно, превращала текст в нечто иное. Об остальном нам остается только гадать.
14.12.2014
***
Предзаказ на книгу Александра Скидана «Сыр букв мел» можно сделать на сайте Издательства Яромира Хладика.
