Бодрияйр. Зеркало Производства. Перевод стр. 30-37.
Двойное “Родовое” Лицо Человека
Фактически, потребительная стоимость рабочей силы не существует в большей степени, нежели потребительная стоимость продуктов или автономия означающего и референта. Тот же вымысел правит в трех порядках производства, потребления и сигнификации. Меновая стоимость — это то, что заставляет потребительную стоимость продуктов выглядеть в качестве её антропологического горизонта. Меновая стоимость рабочей силы — это то, что заставляет её потребительную стоимость, конкретное происхождение и цель акта труда, выглядеть как её “родовое” алиби. Это логика означающих, которые производят “свидетельство” той самой “реальности” означающего и референта. В любом случае, меновая стоимость никак себя не показывает за исключение абстракции, абстрактного искажения конкретного производства, конкретного потребления и конкретной сигнификации. Но это приводит к возгоранию конкретного в качестве её идеологического эктоплазма, её фантазма происхождения и трансценденции [dépassement]. В этом смысле потребность, потребительная стоимость и референт “не существуют.”[11] Они лишь только концепты, произведенные и спроецированные в общее измерение развитием той самой системы меновой стоимости.
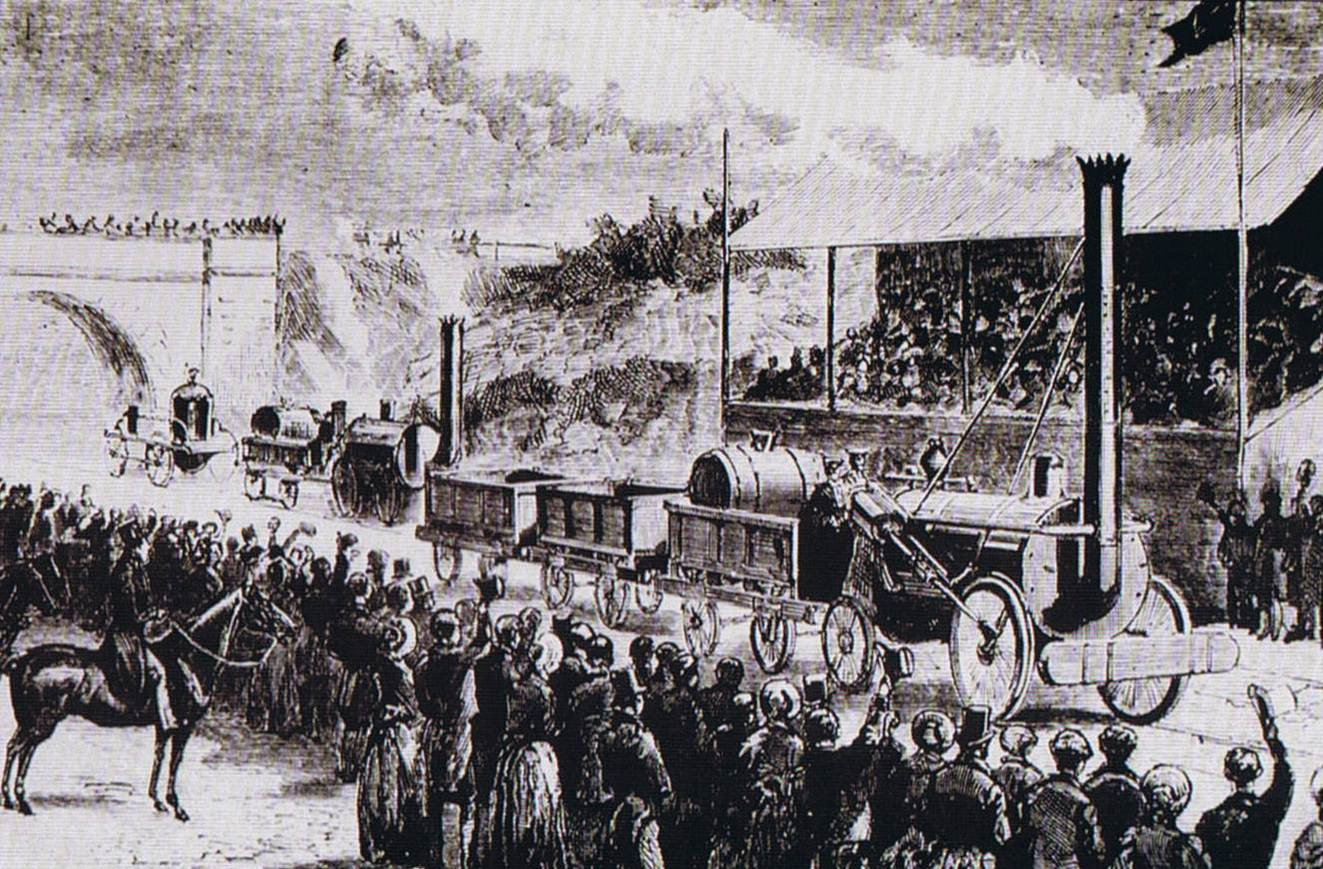
Кроме того, двойная потенциальность человека как потребностей и рабочей силы, это двойное “родовое” лицо универсального человека — это лишь только человек как произведенный этой системой политэкономии. И производительность эта в основном не родовое измерение, человеческое и общественное ядро всего богатства, ожидающего извлечения из оболочки капиталистических отношений производства (вечная иллюзия эмпириков). Вместо этого, всё это должно быть опрокинутьо, чтобы увидеть, что абстрактное и обобщенное развитие производительности (развитая форма политэкономии) — это то, что заставляет концепт производства выглядеть как движение человека и родовая цель (или точнее, как концепт человека как производителя).
Другими словами, система политэкономии не производит только индивидуума как рабочую силу, которая продается и обменивается. Она производит ту самую концепцию рабочей силы как фундаментального человеческого потенциала. Глубже, чем в вымысле об индивидууме, свободно продающем свою рабочую силу на рынке, эта система коренится в идентификации индивидуума с рабочей силой и с его актом “трансформации природы в соответствие с человеческими целями.” В работе, человек не только количественно эксплуатируется в качестве производственной силы системой капиталистической политэкономии, но и метафизически переопределяется в качестве производителя кодом политэкономии.[12] В последней инстанции, система рационализирует свою силу здесь. И в этом марксизм способствует коварности капитала. Он убеждает людей в том, что они отчужденны продажей их рабочей силы, подвергая цензуре таким образом гораздо более радикальную гипотезу о том, что они могут подвергаться отчуждению в качестве рабочей силы, в качестве “не отчуждаемой” силы создания ценности своим трудом.
Если с одной стороны Маркс заинтересован в поздней судьбе рабочей силы, которая объективирована в производственном процессе как абстрактный общественный труд (труд как его меновая стоимость), марксистская теория, с другой, никогда не бросает вызов человеческой способности к производству (энергетическому, физическому и интеллектуальному), этому производительному потенциалу каждого человека в каждом общества “трансформировать его окружение в цели, пригодные для индивидуума и общества,” этому Arbeitsvermögen. Критицизм и история странным образом застывают перед этим антропологическим постулатом. Любопытная судьба выпала у марксистского концепта.
Та же судьба настигла концепт потребности в её настоящей операции (потребление потребительной стоимости). Она являет те же характеристики, что и у конкретного аспекта производства: уникальность, дифференциация и несоизмеримость — вкратце, “качество.” Если одно может быть определено как “специфический тип действия, который производит свой продукт,” другое также может быть определено как “специфический вид тенденции (или другой психологической мотивации, с тех пор как это всего лишь плохая психология), ищущей своего удовлетворения.” Потребность также “разлагает материю и форму… в бесконечно различные типы потребления.” В конкретном труде, человек дает полезную, объективную цель природе; в потребности, он дает полезную, субъективную цель продуктам. Потребности и труд — это двойная потенциальность или двойное родовое качество человека. Это та же антропологическая область, в которой концепт производства вырисовывается как “фундаментальное движение человеческого существования,” как определяющий рациональность и социальность, подходящие человеку. Более того, обе логически объединены в своего рода ультимативную перспективу: “На более высокой стадии развития коммунального общества. работа не будет просто средством выживания, но станет сама основной, жизненной потребностью.”[13]
Радикальная в своем логическом анализе капитала, марксистская теория тем не менее сохраняет антропологический консенсус c параметрами Западного рационализма, обретенного в его окончательной форме буржуазной мыслью восемнадцатого века. Наука, техника, прогресс, история — в этих идеях мы имеем целую цивилизацию, которая понимает себя как производящую свое собственной развитие и берет свою диалектическую силу к укомплектованию человечества в выражении тотальности и счастья. Это не Маркс изобрел концепты генезиса, развития, и завершенности. Он в сути ничего не поменял: ничего касательно идеи о человеке, производящем себя в своей бесконечной детерминации и безостановочно превосходящего себя по направлению к его собственной цели.
Маркс перевел этот концепт в логику материального производства и историческую диалектику способов производства. Но дифференцирование способов производства делает неоспоримым свидетельство о производстве как детерминирующей инстанции. Оно обобщает экономический режим рациональности над всей протяженностью человеческой истории, как родовой способ человеческого становления. Оно описывает целую историю человека в гигантской симуляционной модели (курсив мой — М.О.). Оно пытается как-то обернуться против строя капитала, используя в качестве аналитического инструмента самый искусный идеологический фантазм, который капитал сам выработал. Это “диалектическая” перестановка? Не преследует ли система свою диалектику универсального производства здесь? Если выдвинуть гипотезу о том, что никогда не была и никогда не будет ничего, кроме единственного способа производства, управляемого капиталистической политической экономией — концептом, который имеет смысл только в отношении к экономической формации, которую он производит (и более того, к теории, которая анализирует эту экономическую формацию) — тогда даже “диалектическое” обобщение этого концепта будет только идеологической универсализацией постулатов этой системы.
Этика Труда — Эстетика Игры.
Эта логика материального производства, эта диалектика способов производства всегда возвращается по ту сторону истории к родовому определению человека как диалектического бытия, которое может быть схвачено только в процессе объективизации природы. Эта позиция настолько переполнена последствиями, что даже сквозь превратности его истории, человеком (чья история тоже его продукт) будет правиться этот ясный и определенный разум, эта диалектическая схема, играющую роль имплицитной философии. Маркс развивает её в Манускриптах 1844 года; Маркузе (Культура и общество) оживляет её в критике экономического концепта труда: “Труд это не экономический концепт, а онтологический концепт человеческого существования как такового.” Он цитирует Лоренца фон Стайна: “Труд — это… в любом виде актуализации чьих-либо бесконечных детерминация через
На этой диалектической почве, марксистская философия разворачивается в двух направлениях: этика труда и эстетика не-труда. Первое пересекает всю буржуазную и социалистическую идеологию. Оно возвеличивает труд как ценность, как цель в себе, как категорический императив. Труд теряет свою негативность и потом возводится в абсолютную ценность. Но так ли уж далек “материалистический” тезис о человеческой родовой продуктивности от “идеалистического” обожествления труда? Во всяком случае, он опасно уязвим для обвинения в этом. В той же статье Маркузе пишет: “поскольку они берут концепт ‘нужд” и их удовлетворения в мире товаров в качестве отправной точки, все экономические теории не справляются с тем, чтобы признать фактическое содержание труда… Существенное фактическое содержание труда не основывается на нехватке товаров, но, напротив, в существенном избытке человеческого существования по ту сторону любой возможной ситуации, в которой оно находит себя и мир.” На этой почве, он отделяет игру как второстепенную деятельность: “В структурном смысле, внутри тотальности человеческого существования, труд необходимо и вечно перед игрой: это отправная точка, основание и принцип игры, поскольку игра — это в точности отрыв от труда и восстановление для труда.” Следовательно, в одиночку труд основывает мир как объективный и человека как исторического. Вкратце, в одиночку труд основывает реальную диалектику преодаления [dépassement] и исполнения. Она обосновывает болезненный характер труда даже метафизически. “В конечном счете, обременительный характер труда выражает ничто иное как негативность, заложенную в самой сущности человеческого существования: человека может самореализоваться только проходя через то, что не такое, как он сам [ce qui autre que lui-même] на самом деле, проходя через экстернализацию и отчуждение.“ Я цитирую этот долгий пассаж только для того, чтобы показать как марксистская диалектика может привести к пуританской христианской этике. (Или к ее противоположности. Сегодня наблюдается распространенное заражение обеих позиций на почве этого преодоления [transcendance] отчуждения и этого внутри-мирового аскетизма, направленного на то, чтобы стараться и превозмогать [dépassement], в котором Вебер обнаружил радикальный зародыш капиталистического духа.) Я также процитировал его, потому что это аберрантное обожествление работы было секретным пороком марксистской политической и экономической стратегии с самого начала. Она было жестоко атакована Беньямином: “Ничто так не разлагало движение немецких рабочих как чувство плавания по течению. Оно ошибочно приняло техническое развитие за течение, направление, в котором, как оно считало, оно плавало. После этого, оставалось сделать только один шаг для того, чтобы вообразить, что индустриальный труд представляет политическое действие. С немецкими рабочими старая протестантская этика работы отпраздновала в секулярной форме свое воскрешение. Программа Гота носила следы этого замешательства. Она определяла работу как “источник всего богатства и культуры,” на что Маркс еще хуже возражал, что человек обладает только своей рабочей силой и т.д. Однако, замешательство разрасталось все больше и больше. Йосиф Дицген объявил: “Работа — это Мессия современного мира. В улучшении труда находится богатство, которое теперь может принести то, что не удалось ни одному избавителю.” [16] Это “вульгарный” марксизм, как считал Беньямин? Он не менее вульгарный, чем “странное безумие,” которое Лафарг осуждал в Праве на Лень: “Странное безумие овладело рабочими классами тех стран, в которых царит капиталистическая цивилизация.”[17] По всей видимости, “чистый и бескомпромиссный” марксизм сам проповедует освобождение производственных сил под покровительствам негативности труда. Но, столкнувшись с “вульгарным” идеализмом евангелия работы, это ли не будет по аналогии “аристократический” идеализм? Первый позитивистский, а второй называет себя “диалектическим.” Но они разделяют гипотезу о производственном предназначении человека. Если мы допускаем, что оно сызнова поднимает чистейшую метафизику,[18] тогда единственная разница между “вульгарным’ и “другим” марксизмом будет, как разница между религией масс и философской теорией, т.е. не такая уж и большая разница.
[11] Это не значит, что они никогда не существовали. Отсюда проистекает еще один парадокс, к которому мы вернемся.
[12] Схожим образом с природой: на лицо не только эксплуатация природы в качестве производственной силы, но и переопределение природы в качестве референта, как “объективной” реальности, кодом политэкономии.
[13] 1844 Manuscripts. [Я не смог отследить эту цитату]. Заметка переводчика Марка Постера в английском издании.
[14] “О Концепте Труда,” Telos 16 (Лето, 1973), стр. 11-12.
[15] Энгельс, будучи всегда натуралистом, заходит так далеко, что возвеличивает роль, сыгранную работой в переходе от обезьяны к человеку.
[16] Вальтер Беньямин, Поэзия и Революция (Париж: Деноэль, 1971), стр. 283.
[17] Поль Лафарг, Право на Лень, пер. С. Kerr (Chicago: Kerr, 1917), стр. 9.
[18] Такую как представление человека как единства души и тела, которое вызвало необычайный “диалектический” расцвет в средние века в Христианском мире.
