Заметки неверующего человека об этической и евангельской составляющей христианства

Этот текст, не претендующий на оригинальность или глубину, родился из многочисленных полемик с религиозными собеседниками — полемик более или менее доброжелательных, более или менее глубоких, полемик никуда не ведущих, но неизменно оставляющих некоторое чувство «подмены вопроса»,
В беседах с неверующими верующие привыкли обсуждать два действительно фундаментальных вопроса — о существовании Бога, и об основаниях для моральных поступков, однако, мне всегда казалось, что обсуждение действительно фундаментальных вопросов бессмысленно, ибо, как известно, конструктивный и
Что самое главное в христианстве и не содержится ли оно в Евангелиях?
Эта мысль приходила в голову многим, она была традиционной темой протестантизма — особенно в моменты учреждения новых протестантских деноминаций, однако, как я полагаю, не помешает еще раз ее проговорить — дабы напомнить прежде всего себе, и всем пожелавшим это прочесть, о тех возможностях и развилках, которые таятся в фундаменте нашей цивилизации.
Итак, в возможной полемике с верующими христианами, можно провозгласить, что христианство есть создание рук человеческих, попросту выдумка, и на этом закончить. Но предположим, что в нем есть или могла бы быть сверхъестественная, божественная инспирация. В этом случае чрезвычайно важно то, что божественное влияние — момент откровения — имело место через миссию Иисуса Христа. То есть, христианство — если руководствоваться тем, в чем оно само видит в себе божественное начало, и что оно само считает самым важным в себе — есть движение, возникшее под влиянием и во исполнении миссии Иисуса Христа. В чем же заключалась миссия? Прежде всего, Иисус Христос пришел для того, чтобы учить. Большая часть Евангелий рассказывает о его проповедях и беседах, судя по всему, именно этим он занимался, он был учителем и проповедником (в некоторых случаях евангельский текст, не приводя нам цитат, сообщает что Иисус «учил народ»). Есть учение Христа, воплощенное в его логиях, т.е. цитатах. Значительная же часть его речей составляют наставления этического характера. «Не составляет ли нравственное учение девять десятых этой книги?»- пишет о Евангелиях Георгий Федотов в статье «В защиту этики». Ну, пусть не девять десятых, но 51% явно будет. Мне всегда казалось, что если читать Евангелия беспристрастно, то быть последователем Христа означает прежде всего, в ожидании пришествия Царства Божьего изменить свое поведении и весь душевный строй (как — подробно написано), некоторые ритуальные обязанности — такие как евхаристия и молитва «Отче наш» явно не загораживают этот приоритет.
Я не берусь судить, в какой степени этот приоритет поддерживается в раннем христианстве, но во всяком случае мне представляется важным, что древнейший из христианских катехизисов, т.н. Дидахи, памятник конца I — начала II вв, начинается именно с этических глав и первая его глава — посвящено самым ярким из этических наставлений Христа таким как «просящему дай и не проси назад». Но в современном катехизисе Католической церкви человеческому поведению и христианской жизни посвящена только третья часть из четырех, да и ее содержание в значительной степени не евангельское, хотя разумеется отражающую богатую историю христианских размышлений над нравственной проблематикой — там есть про «ассортимент грехов», про страсти и половина всего раздела — про ветхозаветный декалог.
Говоря коротко. То значение, которое Учению Христа и в особенности его нравственным наставлениям придается в текстах Евангелий несопоставимо с их значением в жизни и практиках христианских церквей. Учение, и в особенности нравственное учение стали второстепенными по сравнению с множеством более важных вопросов, имеющих отношение к Евангелиям лишь косвенное, либо прямо изобретенных независимо от них, с опорой на апостолов, иудаизм, языческие традиции либо новации последующих церковных деятелей.
Никейский Символ веры собственно не содержит практически ни одного пункта, касающегося этики, да и к числу вытекающих из учения Христа относится только один пункта — «чаю воскрешение мертвых». В целом же, в Символе веры учение Христа заменена его биографией, которая превращена в магический механизм, обеспечивающий все самое главное, что есть в религии.
Важнейшими вопросами богословия, служившими формальными поводами для церковных расколов, связаны с религиозной метафизикой, которая вообще не была важной для евангельского Христа — это вопросы Троичности (включая филиокве), монофизитства, почитания икон, браков для священников, монашества. Стоит заметить, что эти вопросы не только не были важными с точки зрения евангельского текста, но и касались таких сфер, о которых трудно составить обоснованное мнение — если не только не выдавать человеческое представление о прекрасном за боговдохновенность.
Все главнейшие практики церкви (не важно, католической, православной или какой-нибудь восточной, в меньшей степени протестантских) в большинстве случаев никак не вытекают из учения Христа и не реализуют его.
Концепция искупительной жертвы (сформулированная апостолом Павлом, вообще повлиявшем на создание нового, не совсем евангельского христианства) сделало спасение деянием самого Христа, и таким образом, сняла большую часть ответственности с людей.
Важнейшие практики христианской религии имеют очень отдаленное отношение к Учению ее основателя.
Монашество «изобретено» через несколько столетий после Христа.
Две сообщенных Учителем коротких молитвы для частного использования превратились в гигантскую литературно-ритуальную индустрию заклинаний на все случаи жизни, включая медицинские, бытовые и финансовые, с обращением по множеству адресов, помимо предполагавшегося в Евангелиях Отца небесного.
Богослужению с пением псалмов и другими ритуальными действиями крайне трудно найти основания в Евангелиях — но зато оно несколько напоминает традиции языческих религий с алтарями и жертвами. То же можно сказать об иконах, свечах, статуях святых. что заставило Адольфа Гарнака написать: «Но если кто-либо извне рассмотрит эту церковь с ее культом, ее торжественным ритуалом, ее мощами, иконами, священниками, монахами и мистической мудростью и сравнит ее, с одной стороны, с церковью первого века, а с другой — с греческими культами времен неоплатонизма, — тот рассудит, что она ближе не к той, а к последним. Она представляется не христианской основой с греческим утком, но, наоборот, греческой основой с христианским утком. Христиане первого века с нею боролись бы точно так же, как они боролись с культом «Великой матери» и «Зевса-спасителя». Бесчисленные элементы этой церкви, почитаемые такими же святыми, как и само Евангелие, не имеют и зародыша в древнем христианстве. Не иначе обстоит дело с исполнением главного богослужения и даже со многими догматами: стоит только зачеркнуть некоторые слова, как, напр., «Христос» и др., и ничего там не напомнит об их христианском происхождении. Эта церковь в своем общем, внешнем проявлении составляет лишь продолжение истории греческой религии под чуждым ей влиянием христианства…»
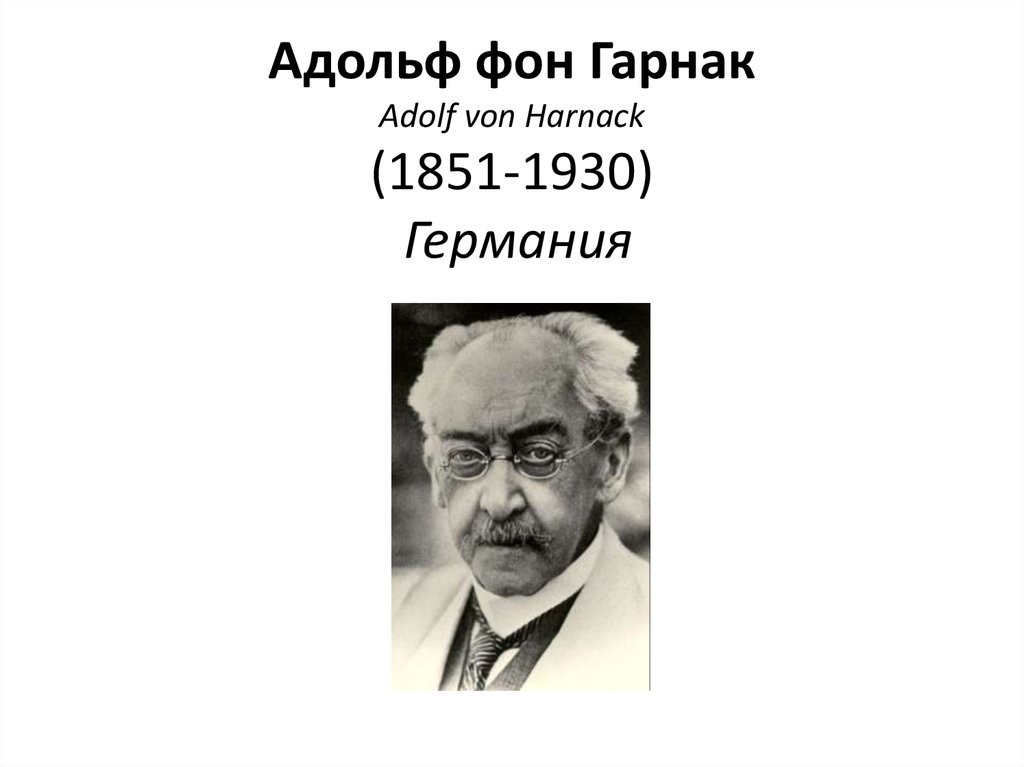
Самое «моральное» из церковных таинств — исповедь, во-первых, никак не вытекает из Евангелий, а
Причастие, безусловно, вытекает напрямую из евангельского текста, тут нет спора, и все же ему кажется, не вполне соответствует то гигантское, решающее значение которое придается ему как ключевому момент всей церковной жизни и делу спасения.
Нравственное богословие оказалось далеко не первостепенной философской дисциплиной. Российский религиовед Александр Чернявский в своей книге «Кризис традиционного богословия и поиски выхода» (М., СПб., 2020) одной из составляющих богословского кризиса счел именно проблему места этики в религии, главу, посвященному этому вопросу он начинает с того, что «поскольку смысл жизни христианина — это спасение, христианская этика должна вытекать из представлений о спасении», однако христианское богословие считает главным источником спасение именно мученическую смерть Христа. «В современном богословии вопрос о связи этики любви к ближнему со спасением остается открытым», — осторожно констатирует А.Чернявский , хотя стоило бы заметить, что с точки зрения верующего христианина следовать наставлениям Христа может быть следовало не только потому что это ключ спасения, а просто потому, что Христос так велел.
Самое христианское, что есть в христианстве — это проходящие через всю ее историю попытки реевангелизации, возврата к Евангелиям, делавшиеся при учреждении множества движений и сект.
Лично на мой вкус — который ни для кого не имеет никакого значения — Христианство было бы более «симпатичным», более «обаятельным», если бы было действительно христианством, то есть исполнением учения Христа по преимуществу.
Завершим эту небольшую, банальную и не на что не претендующую заметку опять же цитатой из «Сущности христианства» Гарнака: «Наконец, мы спросим: каким изменениям подверглось Евангелие в этой церкви, и как оно сохранилось? Тут я, должно быть, не встречу противоречия, если отвечу так: вся эта официальная церковность с ее священниками, с ее культом, сосудами, ризами, святыми, иконами, амулетами, с ее постами и праздниками ничего общего с религией Христа не имеет».
