«Старинные люди у холодного океана» В. Зензинова
В Издательстве книжного магазина «Циолковский» выходит книга В. Зензинова «Старинные люди у холодного океана» — уникальное этнографическое исследование русскоустинцев, жителей небольшого поселения на севере Якутии, потомков русских переселенцев, бежавших от различных невзгод в XVI или XVII вв. и образовавших в итоге субэтническую группу русского народа. Внимательное и остроумное описание быта, жизни, промыслов этих людей, не первую сотню лет живущих в довольно сложных, если не сказать экстремальных условиях составило несколько книг, выпущенных Зензиновым сразу после освобождения из ссылки. Книги, снабженные ссылками на якутские архивы, записями песен и былин и собственноручно выполненными Зензиновым фотоматериалами, сразу получили благосклонное научное признание, но долгое время не переиздавались, и сейчас этот пробел восполнен. Книга ожидается из типографии в конце октября, а ниже представлено предисловие аспиранта Школы исторических наук ВШЭ Александра Гельвиха.
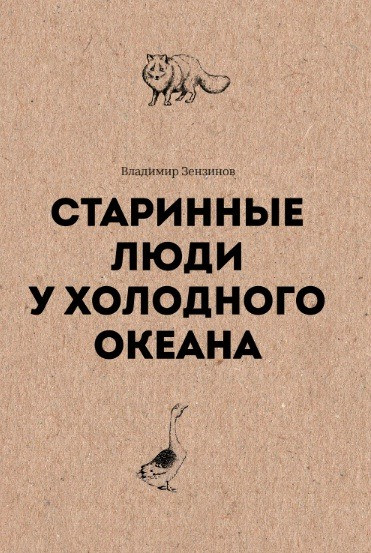
16 января 1912 года в одном из крохотных поселений на самом севере Якутской области, в трёх тысячах вёрст езды к
«Когда наши собаки остановились у избы, был уже вечер, но всё же можно было разглядеть, что перед нами не земляная якутская юрта, а рубленая русская изба. Войдя в неё, я с удивлением обнаружил, что деревянный пол чисто вымыт. У огня стояла русоволосая и голубоглазая хозяйка».
И хоть воспоминания другой стороны,— неграмотной хозяйки избы,— до нас не дошли, сомневаться в том, что удивление было взаимным, не приходится. Встретить человека из Москвы в местах, куда и
По мере дальнейшего продвижения на север из этого крохотного неназванного поселения (можно предположить, что это было Похвальное или Ожогино — каждое в один дым) вниз, по течению Индигирки к побережью Ледовитого океана, удивление Зензинова возрастало; возрастал и интерес местного населения к нему. Когда же, наконец, спустя 5 дней он прибыл к месту своей ссылки, в административный центр (здесь жил выборный староста) и крупнейший (целых шесть дымов) в этих краях населённый пункт — Русское Устье, он обнаружил, что совершил, по-видимому, путешествие не только в пространстве, но и во времени:
«Не знаю, не понимаю, куда я приехал… Это, конечно, Россия, но Россия XVII, может быть, XVI века. Странные древние обороты речи и слова, совершенно патриархальные, почти идиллические отношения»,— писал он в дневнике.
Так началось его знакомство с русским населением устья Индигирки,— потомками служилых людей, бежавших сюда из Европейской России в первой половине XVII (по другим данным — в конце XVI, ещё при Иване Грозном).

Неожиданная встреча и взаимное удивление, ею порождённое, послужили пользе обеих сторон. Образованному и энергичному Зензинову, пребывавшему в полной неизвестности относительно условий, в которых ему предстоит оказаться, представилась возможность посвятить время ссылки исследованию уникального этнографического материала. Её он использовал сполна, опубликовав по материалам своего там пребывания три книги и ряд очерков; занимаясь, помимо этнографических наблюдений, фотографией, метеорологией, орнитологией и медициной. Русскоустьинцы в его лице обрели не только гостя из совершенно незнакомого, но крайне их интересующего (в условиях совершенного отсутствия новостей) мира цивилизации, но и источник столь ценимых на Севере необходимых в быту мелочей (гвоздей, проволоки), удачливого охотника, учителя, и, что важнее всего, медика; в общем, человека исключительно полезного. Значения его исследовательской работы неграмотные верхоянские мещане, конечно, оценить не могли, однако именно благодаря Зензинову, чьи «Старинные люди у Холодного океана» были впервые опубликованы в Москве ещё в 1914 г, во время его пребывания в ссылке, об их существовании узнало как академическое сообщество, так и широкая общественность Российской империи. Этнографами население Русского Устья (наряду с другими жителями Якутской области — походчанами, чукотскими марковцами и таймырскими затундренными крестьянами) до сих пор изучается как хрестоматийный пример формирования субэтноса в условиях географической и культурной изоляции, да и потомки самих «старинных людей» знакомятся с прошлым своего села по книге ссыльного революционера.
Ссылка в низовья Индигирки была уже третьей в жизни Владимира Зензинова; в двух первых он, впрочем, не задержался, сбежав из обеих в первые дни по прибытии. На севере же Якутии ему пришлось отбыть полный срок — 4 года. Вообще же, ссылка, в которой были написаны «Старинные люди…», была лишь одним из эпизодов его напоминающей авантюрный роман биографии.
Родился Владимир Михайлович Зензинов в 1880 г. в Москве, в семье потомственного почётного гражданина из богатых сибирских купцов. Его дед, Михаил Андреевич Зензинов, в 1820-е годы приехал в Даурию, как тогда именовали Забайкалье, из Вологодской губернии с двумя братьями, ставшими впоследствии купцами 1 гильдии. Сам Михаил Андреевич в коммерции не преуспел, в следствие того, вероятно, что основной сферой его интересов были литература и науки: краеведение, ботаника, агрономия, медицина. Не имея даже начального образования, он публиковал работы в известных столичных журналах, состоял в переписке с историком и издателем «Москвитянина» М.П. Погодиным, участвовал в составлении первого русско-тунгусского словаря и даже, по сведениям его внука В.М. Зензинова, был членом-корреспондентом Императорской академии наук в
Отец Владимира Зензинова, Михаил Михайлович, был в семье 12-м ребёнком. Основным его занятием на протяжении всей жизни была коммерция. Однако он, также не получив даже начального образования, унаследовал интерес своего отца к краеведению, литературе и истории декабристского движения — по его инициативе и при его участии была издана книга «Декабристы, 86 портретов» с иллюстрациями П.М. Головачёва. Своего рода аттестат зрелости он получил, выполнив весьма ответственное задание друга семьи, купца М.Д. Бутина: будучи 23-летним молодым человеком, не знавшим иностранных языков (да и за пределы забайкальского края-то никогда до этого момента не выезжавшим), он отправился в Америку, купил небольшой колёсный пароход, и своим ходом пригнал его в Нерчинск.
Как видно, стремление к познанию, интерес к литературе и журналистике, пиетет к революционному движению и свойственную первопроходцам склонность к риску, доходящую порой до авантюризма, можно считать характерными родовыми чертами семьи Зензиновых. Несмотря на то, что родители Владимира были людьми аполитичными, они всегда если и не с пониманием, то, по крайней мере, без порицания относились к его революционной деятельности, и в трудных ситуациях всегда оказывали ему всевозможную поддержку.
Интересы, определившие мировоззрение и политическую позицию Владимира, сформировались достаточно рано: уже в гимназии он организовал с одноклассниками подпольный кружок самообразования, 14–15 летние участники которого не только обсуждали тексты Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, Н. К Михайловского, но и состояли с ними в переписке. Спустя несколько месяцев кружок начал издавать литературно-политический журнал, название которого — «Полярная звезда» — отражало как политическое позиционирование, так и уровень амбиций его создателей (в редакционном обращении журнал был назван третьим под таким названием; очевидно, в продолжение начинаний А.А.
«статью публицистического характера о своём воображаемом путешествии по Волге, на которой, кстати сказать, он никогда не был, с резкой критикой административных властей».
Отсутствие средств и аудитории (журнал бы рукописным, и выходил скромным тиражом в 2 экземпляра) начинающих публицистов не страшило:
«Мы знали, что жизнь человеческая коротка, что пошлость и нас скоро может задушить в своих объятиях, как она душит всех, кто уже достиг 30-летнего возраста,—и мы стремились претворить наши идеи в
Деятельность молодых публицистов не осталась без внимания полиции. Несмотря на то, что окончить гимназию Владимиру всё-таки удалось, и сам он и его родители понимали, что успешное продолжение учёбы в сотрясаемых студенческими волнениями университетах России для молодого человека с его взглядами едва-ли было возможным. С согласия семьи он принимает решение поехать за границу,
«чтобы там в свободных странах в спокойной обстановке получить нужные знания и выйти на борьбу».
В 1899 году Зензинов едет в Европу, и, после неудачного опыта поступления в несуществующий брюссельский «Социалистический университет» (который так и остался нереализованным проектом), оказывается в Германии, которая была в то время знаменита не только своей передовой наукой, но и весьма привлекательными для иностранных студентов условиями, позволявшими не только самостоятельно выбирать учебную программу, но и многократно менять место обучения. В университетах Берлина, Гейдельберга и Галле, имевших репутацию сильнейших в стране, Зензинов провёл в общей сложности 5 лет, посещая лекции по философии, политическим, общественным, юридическим и экономическим наукам. Довелось ему поучиться у учёных и философов, чьи имена и сегодня не нуждаются в представлении специалистам: он анализировал язык произведений Данте на семинаре Карла Фосслера, посещал лекции Георга Еллинека по истории права, историю философии изучал под руководством Куно Фишера и Алоиза Риля, а логику и теорию познания — под руководством Вильгельма Виндельбанда.
Именно здесь Владимир Зензинов встретил людей, знакомство с которыми определило его дальнейшую судьбу. На его политическое самоопределение важнейшее влияние произвело знакомство со старыми народниками поколения 1870-х гг.: Ф. Волховским, Л. Шишко, и «бабушкой русской революции». Е. Брешко-Брешковской, а также с продолжателями их дела — основателями и руководителями партии социалистов-революционеров М. Гоцем, Г. Гершуни, и Б. Савинковым; с главой Боевой организации ПСР, провокатором Е. Азефом. Примкнув к народническому движению в студенческие годы, Зензинов останется верным ему, пройдя через тюрьмы и ссылки, эмиграции и возвращения к революционной работе в России, в коллизиях 1917-го года и Гражданской войны, и позднее, в десятилетиях вынужденной эмиграции.
Между старыми политкаторжанами-народниками, основателями эсеровской партии и поколением Зензинова, несмотря на общую преданность делу «Земли и воли», существовали известные культурные и мировоззренческие расхождения. «Старшие» настаивали на возможно скорейшем возвращении революционных студентов на родину для участия в революционной работе; ближайший круг друзей Зензинова: Н. Авксентьев, А. Гоц, И. Фондаминский и А. Гавронская был объединён не только политической позицией, но и общим стремлением к образованию. О полемике со старшими товарищами, в частности, с М. Гоцем, Зензинов вспоминал:
«Их позитивистическое поколение, старше нашего на 12–15 лет, считало философию излишней роскошью в арсенале революционера и общественного деятеля. Мы же полагали, что под наши революционные чувства необходимо прежде всего подвести фундамент философии и науки».
Дружба с Авксентьевым и Фондаминским, зародившаяся в стенах германских университетов, продлилась до конца жизни. Тогда же, в Гейдельберге, Владимир Зензинов встретил и свою первую любовь, которой суждено было стать единственной. Её, пожалуй, нельзя назвать ни невзаимной, ни даже несчастливой; однако Амалия Гавронская, университетский и партийный товарищ, из дружбы с которой это чувство выросло, так никогда и не стала его женой. Равно расположенная к двум своим ближайшим друзьям, почти одновременно признавшимся ей в любви, она после долгих и мучительных, едва не стоившей ей психического здоровья сомнений совершила (не без давления семьи — ортодоксальных иудеев, пришедших в ужас от перспективы женитьбы любимой дочери на нееврее) выбор в пользу Фондаминского. Несмотря на это, все трое поддерживали дружеские отношения до конца жизни и были очень близки.
«Я пишу сейчас о той, кого уже нет в живых — и при её жизни никогда бы не посмел коснуться её на бумаге, которую могут читать посторонние и даже совсем мне незнакомые… Она была моей первой и единственной любовью — её образ я свято носил в своей душе все тридцать пять лет своей жизни, пока она была жива, свято храню после её смерти, свято сохраню и до своей последней минуты. Это я знаю твёрдо», — писал Зензинов за несколько месяцев до своей смерти.
В начале 1904 г., спустя недолгое время после свадьбы Фондаминских, Зензинов, желая переменить обстановку и уступая призывам старших товарищей, бросает учёбу (докторская диссертация о Спинозе и Фихте так и останется недописанной) и возвращается в Россию для участия в подпольной работе. С собой через границу он везёт томик безобиднейшего журнала «Образование», на одной из страниц которого химическими чернилами написано шифрованное сообщение от ЦК партии «Ивану Николаевичу» (Е. Азефу), руководителю знаменитой Боевой организации эсеров, с приказом об организации покушения на министра внутренних дел В.К. Плеве, автора идеи «маленькой победоносной войны» с Японией. Спустя полгода Плеве будет убит эсером Егором Сазоновым; его смерть российское общество встретит ликованием.
Зензинов приезжает в Москву, где возглавляет городскую организацию партии, и вскоре становится членом Центрального комитета ПСР — одним из самых молодых. За несколько месяцев он с товарищами организует подпольную типографию и сеть партийных ячеек на заводах и фабриках Москвы. В ночь на 9 января 1905 года он впервые арестован, и на полгода заключён в Таганскую тюрьму, за которой последовала первая ссылка на север Архангельской губернии: столь мягкий приговор объясняется как затруднением железнодорожного сообщения с восточной Сибирью
Манифест 17 октября позволяет Зензинову вернуться в Россию. Он возвращается к руководству московской организацией буквально перед началом декабрьского вооружённого восстания. 8 декабря, после жестокого разгона войсками одного из митингов, московские эсеры решают ответить ударом на удар. Этой же ночью Владимир Зензинов организует взрыв московского здания Охранного отделения — царской политической полиции. Как выяснилось позже,
«оба снаряда произвели в Охранном Отделении чрезвычайно большие разрушения: были разрушены не только оба этажа, но была даже сорвана крыша с дома, а само здание сгорело; истреблены были и архивы, а несколько находившихся в Охранном Отделении сыщиков и полицейских были убиты».
В дни восстания руководители московского отделения эсеров не только выпускают газету, листовки, выступают перед защитниками баррикад и занимаются привычной организационной работой, но и, наряду с рядовыми дружинниками, снабжают восставших оружием и участвуют в перестрелках.
«Опасность караулила буквально за каждым углом. — вспоминает Зензинов в мемуарах. — Помню, вдвоём с моим приятелем, Марком Вишняком, несли мы куда-то в другой конец города несколько маузеров. Это была рискованная задача. Одни районы были в наших руках, другие — заняты войсками и полицией. Как перебежать, как добраться из одного района в другой? Где-то щёлкают выстрелы — иногда далеко, иногда совсем близко, тут же за углом. Наши это стреляют или нет? Помню, Марк на каждом углу восклицал: — «ой, как страшно!» — но шёл дальше. И я тогда вспомнил слова Толстого, что храбрость заключается вовсе не в том, чтобы не испытывать чувства страха, а в том, чтобы это чувство побеждать. Мне тоже было страшно… Осторожно выглядываешь
После подавления московского восстания Зензинов вступает в Боевую Организацию, участвует в организации неудавшихся покушений на адмирала Чухнина в Севастополе и «усмирителей» восставшей Москвы и Подмосковья полковников-семёновцев Мина и Римана; затем перенаправляется ЦК на «крестьянскую работу» в Украину. После разгона первой Думы он возвращается в Петербург, где подвергается аресту во второй раз.
Побег из второй ссылки, на этот раз из Якутска, оказался делом куда более хлопотным и опасным. Первая попытка оказалась неудачной — подкоп из знаменитой Александровской пересыльной тюрьмы был обнаружен администрацией. Зато по прибытии летом 1907 года в Якутск, Зензинов, также как и двумя годами раньше в Архангельске, в первый же день бежит из ссылки. Под видом золотопромышленников он с товарищем, преодолев 1500 километров по практически поглотившему существующий лишь на карте тракт таёжному бездорожью и болотам, добирается до Охотска, в то время ещё не имевшего телеграфного сообщения с Якутском, — беглецы могли не опасаться разоблачения. Из Охотска на японской рыболовецкой шхуне Зензинов отправляется на остров Хоккайдо (плавание на шхуне в тайфун в мемуарах он называл самым страшным эпизодом своей полной опасностей жизни). Оттуда, совершив кругосветное путешествие, через Токио, Нагасаки, Шанхай, Сингапур, Коломбо, Суэц и Марсель, он прибывает в Париж.
В январе 1909 года Владимир Зензинов возвращается из Франции в Россию, чтобы принять участие в восстановлении подорванной столыпинским «скорострельным правосудием» и разоблачением Азефа работы партийных организаций. Над этой задачей он работает вплоть до своего третьего ареста в мае 1910 г. (в «Воспоминаниях революционера» он вскользь упоминает, что главные участники его ареста получили от правительства в награду по 12000 рублей. Для сравнения: годовой доход штабс-капитана армии едва превышал в 1914 году 1000 рублей, рабочего — 250). Проведя несколько месяцев в тюрьмах, он, с пометкой «склонен к побегу» в документах и под усиленной охраной отправляется в свою третью ссылку — на север Якутской области.
Окончательное место ссылки, — Русское Устье, — было определено только в Якутске, где Зензинов в ожидании проводит несколько месяцев: устье Индигирки совершенно отрезано от остальной русской Сибири в тёплое время года (с мая по октябрь) непроходимыми болотами. Предварительные попытки разузнать здесь что-то о будущем местопребывании успехом не увенчались: никто, включая и официальных лиц, ничего о нём не знал, за исключением того, что
«хуже и дальше Русского Устья в Якутской области места нет».
Следует отметить, что стараниями родителей Зензинова якутский губернатор согласился переменить место ссылки на более благоприятное, если ссыльный сам обратится к нему с соответствующей просьбой, но Зензинов, не привыкший просить о
Итак, только в январе 1912-го, после полуторамесячного пути на собаках из Якутска, Владимир Зензинов прибывает в Русское Устье, и вопреки всякому ожиданию обнаруживает себя в России «XVII, может быть, XVI века».

Первые впечатления ссыльного дошли до нас благодаря его составленной из дневниковых записей и писем родным книге «Русское Устье» и лапидарной автобиографии «Из жизни революционера». Несмотря на утомление от дороги и тяжёлое предвкушение долгих месяцев жизни в совершенно изолированном от цивилизации месте, он испытывает интерес и прилив энтузиазма; местный быт, культура и привычки вызывают в нём восхищение. В соответствии с культурными установками своего круга он, вероятно неосознанно, проецирует на верхоянских мещан все типичные черты руссоистского образа «благородного дикаря», тем более привлекательного, что одет он не в
При встречах и прощаниях родственники целуются, вечером ко мне приходят с пожеланиями доброй ночи и приятного сна. Иисусе Христе, Матерь Божья не сходят с языка… В селении стоит наивная часовенка со старинной тяжёлой иконой Божьей матери. “Только она нас и хранит”, — убеждённо сказал мне русскоустьинец. Вероятно, также верили наши предки… Пока не боюсь предстоящего мне одиночества. Думаю, что сумею найти в людях много интересного» — резюмирует ссыльный.
Русскоустьинцы, в свою очередь, с величайшим почтением приняли человека в очках, прибывшего к ним из самой настоящей Москвы:
«Затрудняюсь описать, как меня встретили. Как будто я действительно кум королю и солнцу брат. Не то меня за начальника принимают, не то ещё за
Достаточно быстро Зензинов узнаёт, что он имеет дело с потомками нескольких волн переселенцев из Европейской России, первая из которых имела место или в конце XVI-го, или в первой воловине XVII-го, (местное предание говорит об Иване Грозном, но первое документальное упоминание о Русском Устье относится к 1638-му году, который и сегодня считается официальной датой основания поселения). Она состояла из спасавшихся от тягостей ратной службы выходцев из разных городов России, — из Астрахани, с Вятки, из Великого Устюга, которые прибыли в эти края с нехитрым скарбом на рыбацких ботах и кочах Северным морским путём, вдоль побережья Ледовитого океана. Здесь они не только выжили и приспособились, но и сохранили в окружении численно превосходящих северных «инородцев» (которые в прочих местах русских, как правило, ассимилировали) язык, культуру и идентичность. Быт их, однако, и особенно рацион в суровых условиях тундры изменились совершенно: они практически не ели хлеба (редкого и баснословно дорогого в этих краях) как и вообще растительной пищи, молочных продуктов не знали совсем. Основу рациона составляли самые разнообразные блюда из рыбы (способы приготовления которой были, главным образом, переняты у местных народов) и мясо (гусиное и, гораздо реже, оленье). Рыбалка и сезонная охота на прилетающего в эти края линять («ленного») гуся, — «гусевание», наряду с промыслом песца и поиском мамонтовой кости, — двумя формами товарного хозяйства, приносящими местным жителям хоть какие-то деньги, — составляли основу местной экономики.
Столь причудливое сочетание архаичной русской культуры и уникального экономического уклада стало возможно в условиях практически полной изоляции: контакты с внешним миром, за исключением якутов, юкагиров и чукчей, составлявших окружение русских обитателей устья Индигирки, ограничивались ежегодными визитами священника, да ещё более редкими, — представителей власти (исправника из Верхоянска и «полицейского заседателя» из Булуна). Сами верхоянские мещане, — да и то только главы семей, — раз в год ездили вверх по Индигирке продавать песцовые шкурки и покупать необходимые в хозяйстве вещи. Города не видел никто: «ближайшими русскими селеньями от Индигирки являются с. Казачье (Усть-Янск) в 700 верстах и Нижнеколымск, — 600–700 вер… Из ныне живущих на Индигирке Верхоянских мещан никто дальше этих двух пунктов не был. Верхохоянск, Якутск кажутся здешним жителям где-то на краю света, а Иркутск, Москва, Петербург звучат для них почти так же загадочно, как для нас названия планет — Марс, Юпитер».
Неудивительно, что никто в Русском Устье не знал имени царя, чьё правление длилось к тому моменту уже 17 лет («ведь он новый!»), да и о политических событиях последних десятилетий местные жители имели самое превратное представление.
Тяжело переживая оторванность от привычного культурного окружения и от партийного дела, Зензинов старается занять своё время помимо отнимающего множество сил местного быта и этнографических наблюдений, также орнитологией (в зоологический музей Москвы им было отправлено несколько ящиков экспонатов) и фотографией. В первое издание «Старинных людей…» вошли несколько десятков сделанных тогда снимков, другие до сих пор выставляются в краеведческих музеях Якутии.
Вместе с местными жителями он ездит гусевать, пересекая бурную 30-километровую морскую губу на легкомысленной долблёной лодочке — ветке. Будучи единственным в этих краях (за исключением живущего здесь уже долгое время уголовного ссыльного, выполняющего без особого успеха функции писаря и учителя) грамотным человеком, он моментально завоёвывает среди местных жителей авторитет, а наибольшую известность не только среди русского населения, но и среди соседних «инородцев» приобретает как лекарь.
«Приехали два якута: Батя и Кума, нанялись строить дом. — писал Зензинов в дневнике. — У Бати я лечу трахому. Слава моя докторская растёт… Одна старушка, у которой я вылечил дочь, расхваливала меня так: “Ты, дядюшка, лучше плохого доктора”».
Однако слава эта, как оказалось, имела и существенные издержки: она делает запланированный побег невозможным.
«Когда я зимой 1912–1913 года доехал инкогнито до первых чукчей, через которых должен был двинуться на Восток, они назвали меня по имени: “Это ты тот учёный русский, который лечит людей и помог многим?” Моя попытка к бегству закончилась здесь же. Скрываться легче в толпе, чем в пустыне».
Повседневные заботы и исследования, отнимая всё время, не смогли вполне заменить ссыльному привычного окружения и занятий. Отсутствие собеседников, чей культурный уровень и круг интересов хоть сколько-нибудь соответствовал бы запросам Зензинова, ощущается всё острее, и всё чаще даёт себя знать тоска по России и любимым европейским городам, изливающаяся на страницы дневника:
«Почему-то больше всего мне хотелось бы сейчас быть в Кёльне. С
«Мечта о Париже. О чашечке кофе в кафе за 30 сантимов. Но не дойти отсюда до парижского бульвара — и я поставил самовар, чтобы прогнать тоску. Он весело шумит сейчас на столе и уговаривает не вешать головы».
По мере знакомства меняется и отношение ссыльного к местным жителям: идиллический образ «благородного дикаря» из первых дневниковых записей не выдерживает столкновения с реальностью. В «Старинных людях…», работу над которыми Зензинов завершил уже после отъезда из Русского Устья, он характеризует его обитателей как людей, сохранивших все негативные черты русского национального характера, — отсутствие интереса к познанию, робость и низкую самооценку («Куда мы, такие чертыханы, поедем»), недоверие ко всему новому, страх и почтение, выказываемые любой, даже самой незначительной власти (так, несмотря на ничтожный личный авторитет местного старосты, ему беспрекословно подчиняются все), — но утративших в суровых северных условиях отличающие его добродушие, мечтательность, да и элементарную честность. Гостеприимство и подчёркнутое уважение, которыми местные жители встретили ссыльного, быстро обернулись потерей к его персоне всякого интереса, за исключением чисто прагматического, всё менее маскируемого по мере приближения его отъезда,
«Как будто, — писал удручённый Зензинов, — я был прислан в «Русское Устье» начальством для извлечения из меня индигирцами всякой выгоды».
Религиозность северян, показавшаяся ему сперва столь непосредственной и подлинной, при более близком знакомстве оказалась сопряжена с отсутствием даже намёка на понимание морального смысла христианства, а отношение к Богу также обнаружило неприкрытый прагматический, фактически бартерный характер: жертвы в обмен на безопасность и удачу в охоте:
«Когда гусей промышляем, вся партия кладёт отдельно гусей 200–300 в яму для Бога, потом кто-нибудь их купит. За эти деньги молебен и служим».
Да и в обращениях за помощью к местным шаманам мещане не видели решительно ничего дурного, хоть и старались дела эти не афишировать.
В Русском Устье Зензинов провёл менее года, и уже в ноябре 2012-го, убедив исправника в том, что он не обязан отбывать весь срок ссылки в одном месте, перебрался в более крупный (уже несколько десятков дымов) посёлок Булун, дальше отстоявший от моря и отличавшийся потому ещё более суровым климатом:
«В январе морозы достигали — 71 градусов по Цельзию и я в своей юрте предпочитал чуть не неделями пить чай без сахара, чем идти за ним в соседнюю лавочку, находившуюся от меня в
Суровый климат компенсировался наличием в Булуне нескольких политических ссыльных, да и вообще относительной близостью к цивилизации, — здесь иногда даже удавалось достать столичные газеты. В этот период Зензинов собирает материалы для самой фундаментальной из своих северных книг, «Очерки торговли на севере Якутской области», в которой, приводя статистические выкладки, показывает, как якутские купцы, при полном содействии местных чиновников (разных по уровню власти и характеру полномочий, но единых в своём взгляде не должность как на временное кормление, из которого нужно выжать как можно больше) спаивают и опутывают вечными долгами «инородцев» и русских охотников — промышленников. Некоторое время он живёт с юкагирами, активно путешествует, проделав за 4 года ссылки по собственным подсчётам около 10000 вёрст по Якутии на собаках и оленях.
Наконец, в 1914 году он, с лохматой якутской лайкой Неной, возвращается в Москву и переступает порог родительского дома.
Последующая его биография была, разумеется, не менее активной и насыщенной. Сразу же по приезду он возвращается к партийной работе. Как и его ближайшие друзья, И. Фондаминский и Н. Авксентьев, по вопросу о Мировой войне, разделившему русских социалистов, он занимает позицию революционного оборончества и налаживает для её пропаганды выпуск «Народной газеты», закрытой властями спустя месяц после начала издания. В 1916 г. 35-летнего Зензинова и самого призывают на военную службу, но спустя несколько недель он освобождается от неё по причине плохого зрения. 1917 год он встречает на посту секретаря редакции журнала «Северные записки», в которой знакомится и близко сходится с Керенским («Февральские дни» Зензинова являются важнейшим источником по истории первых недель молодой Российской республики). Как делегат от партии эсеров он участвует в работе Петроградского Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов, позже, — в Чрезвычайный следственной комиссии Временного правительства, занимавшейся расследованиями преступлений крупнейших деятелей царского режима. На протяжении лета и осени он становится, наряду с Авксентьевым (министром внутренних дел Временного правительства) и Фондаминским, — одной из ключевых фигур правого крыла ПСР, и редактирует её центральный печатный орган, газету «Дело народа», в которой проводит последовательно антибольшевистскую линию. Избирается депутатом Учредительного собрания, а после его разгона примыкает в Самаре к Комитету членов всероссийского учредительного собрания (Комучу).
«10 августа 1917 года был в Самаре с частью Государственного золотого запаса, который удалось вырвать из рук большевиков»
— походя упоминает Зензинов в автобиографии «Из жизни революционера». В сентябре 1918 г. он избирается в состав Всероссийского Временного правительства (т.н. «Уфимской директории»), председателем которого был Авксентьев. В результате переворота адмирала Колчака (с последним у Зензинова были очень напряжённые личные отношения; сборник документов о перевороте Зензинов публикует уже в следующем, 1919 г.) и роспуска Директории в ноябре 1918 г., вместе с другими её членами покидает Россию, и через Дальний Восток, Японию и США прибывает в Париж, где проживёт до нацистской оккупации 1940 г.
В парижский период Зензинов будет сотрудничать в журнале «Современные записки» (1920–1940), объединившем ведущие культурные и интеллектуальные силы русской эмиграции, и оцениваемом рядом современников и историков как лучший русский литературно-политический журнал всех времён (с тремя из пяти редакторов журнала, Н. Авксентьевым, И. Фондаминским и В. Рудневым Зензинов был знаком ещё с университетских лет, а с М. Вишняком вместе сражался на московских баррикадах 1905-го). Выпустит резонансные книги «Беспризорные» (1929) о социальной катастрофе в Советском союзе и «Встреча с Россией» (1945), составленную по материалам более 500 писем погибших и попавших в плен в
В
«Старинные люди у холодного океана», — не самая объёмная, не самая фундаментальная и, пожалуй, не самая значительная из книг Зензинова, посвящённая на первый взгляд весьма узкоспециальной теме. Она представляет собой, на первый взгляд, опыт непрофессиональных (пусть и составленных человеком весьма образованным) этнографических наблюдений. Кого и чем она может заинтересовать сегодня?
Во-первых, конечно, этнографов и историков российской этнографии, которые по
Во-вторых, работу Зензинова не должны обойти стороной новые поколения историков революционного движения, для которых она представляет интерес постольку, поскольку проливает свет на биографию одного из лидеров важнейшей, наряду с РСДРП, революционной партии императорской России.
В-третьих, проблематика вынужденного столкновения представителя центра империи с представителями её периферии, образованного модерного субъекта, не чуждого литературных и политических амбиций, с неграмотными селянами — субалтернами, никогда не видевшими города (или, словами Д. Философова, «встреча политического мечтателя, который хочет вдвинуть Россию в европейский двадцатый век, с обитателями «шести хижин», с людьми, которые никогда не видели зерна, молока, которые на вопрос: «Ты знаешь, как Царя звать?» — отвечают: «Не-е, не знаю, ведь он новый!»») представляет несомненный интерес для историков, работающих в рамках исследовательских программ «имперской истории», субалтерных и постколониальных исследований.
В-четвёртых, можно быть уверенными, что книгу не обойдут вниманием якутские краеведы и потомки тех самых «старинных людей», с которыми в 1912 году Зензинов прожил вместе несколько месяцев, принимая активное участие в жизни их сообщества, врачуя русских индигирцев, деля с ними быт и тяготы охотничьего промысла.
Наконец, книга может быть интересна широкому кругу читателей, вне зависимости от того, интересуются ли они специально российской историей и этнографией русского народа. Она, хоть и написана в жанре слегка расцвеченного биографическими деталями позитивистского описания, отличается живым и лёгким языком, и затрагивает сюжет, достойный стать эпизодом увлекательного приключенческого романа.
Всё сказанное выше о потенциальных аудиториях книги, могло бы, с известными поправками, быть сказано и столетие назад, в 1914 году, когда она увидела свет. Что же существенно отличает нашу читательскую ситуацию от ситуации вековой давности, так это то, что сегодня текст Зензинова воспринимается не как встреча современности с архаикой, а как встреча двух различных видов старинных людей; типажей ушедших, равно невозможных сегодня. Тот факт, что написан текст языком весьма современным, не должен скрывать от нас всей культурно-антропологической дистанции. Можно ли сегодня представить человека, добровольно отказывающегося от богатства и высокого социального положения ради политической борьбы? Человека весьма образованного, учившегося в лучших мировых университетах своего времени, знающего несколько иностранных языков, — и без тени снобизма относящегося к наименее развитым в культурном и интеллектуальном отношении согражданам? Не гнушающегося тяжёлой физической работы, не боящегося тягот многомесячных путешествий по нехоженым тропам в тайге, да и, кажется, вообще никого и ничего не боящегося? Наконец, на протяжении всей жизни преданным дружбе, одной любви и одному знамени? Между тем, во всём вышеперечисленном Зензинов не был уникален; он был представителем (пусть и выдающимся) весьма устойчивого и узнаваемого типажа, — российского революционера-интеллигента. Кажется, что сегодня появление подобных людей и вовсе невозможно, но… как знать, быть может и нас ждут ещё удивительные встречи.
Александр Гельвих
