Семь неочевидных текстов для воспитания юношества
Воспитание — процесс увлекательный, хотя до конца не описанный и не определенный. Существуют тысячи решений в воспитании. Можно даже сказать, что каждое воспитание –процесс единичный и, похоже, невоспроизводимый. Может быть, схожим образом не бывает двух одинаковых снежинок. В конце концов, ведь и одинаковых биографий не бывает.

Однако все же существуют некоторые «Королевские пути», проторенные дорожки, оживленные маршруты. Их существование обуславливает и появление путей избираемых меньшинством, обходных и маргинальных. Говоря о воспитании, одним из таких генеральных путей является чтение, которое в свою очередь также расслаивается. И вот появляется сначала школьная программа, а потом разнообразные списки «книг, которые должен прочитать образованный человек», «интеллигентский список Иосифа Бродского» и тому подобные расширения той же школьной программы.
Задача воспитания — формирование основы, или, приводя строительную метафору, поставка материалов из которых впоследствии (да и в процессе) будет формироваться жизненная история.
С увлечением читающий юноша может заметить, что влияние (которое тоже есть воспитание) на него оказывает не любая прочитанная книга, а только сумевшая по-настоящему погрузить в себя, дать пищу для наблюдений, расширить границы, предоставить еще одну оптику для очередной плоскости восприятия. Иными словами, с человеком остаются только те книги, столкновение с которыми были полноценным жизненным опытом.
Вопрос с неочевидной литературой, тем, что называется «вторым планом», «сайдстримом», в том, что это чтение чаще всего случайное, текст вторгается в жизнь с необычной стороны, а, значит, за счет эффекта своей неожиданности у него больше шансов на влияние и воспитание нравов. Конечно, только в том случае если он достаточно силен и убедителен. Кроме того, чтение «второстепенной» книги ценно поскольку про нее не трубят на каждом шагу, и оно становится некоторой тайной, а из соприкоснувшихся с ней собирается «круг посвященных». Сам по себе этот опыт, а точнее, то, как именно юноша им распорядится, уже имеет воспитательный эффект.
Ниже приведен список книг, которые попадают на книжные полки не самым очевидным образом, но чей воспитательный эффект безусловен. На всякий случай упомяну, что это категория 18+, то есть, о воспитании говорить не приходится.
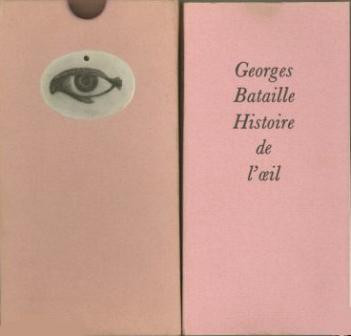
1. Жорж Батай «История глаза»
Пожалуй, самое очевидное из неочевидных сочинений. К Батаю приходят многие люди, чаще всего из интереса к истории искусства или философии. Точнее, к темной части этих дисциплин, где правит разочарование рациональностью и любовь к перверсиям (не перверсивным практикам, конечно! достаточно любить «странное», причем, не важно что за этим стоит, и Батай рано или поздно появится на вашей полке).
Здесь есть некоторая опасность. Батая очень любят люди склонные к мистицизму, заговорам и прочему, что ведет сначала в политические объединения странного (опять же!) толка, а потом к безумию (ну или наоборот!).
Батая достаточно сложно внятно описать в коротком изложении, настолько его путь выбивается из «королевского», однако его разум совершенно ясен и озарен сразу несколькими идеями, что может сбить с толку неподготовленного читателя.
Батай откровенно наследует де Саду. И лучшее наблюдение об этом сделал Паскаль Брюкнер: он пишет о том, что Батай и, может быть, Бланшо — единственные, кто понял, что за порнографичностью де Сада, его резкостью стоит не эпатаж и распущенность, а глубочайший пессимизм
«На самом деле, Сад шокирует не алчной похотливостью, а пессимизмом, подтверждая то, что всегда говорила религия, а именно: секс далеко не безобиден и прямо ведет к жестокости. «Нет мужчины, который не хочет быть деспотом, когда он возбужден», — замечает один из персонажей «Философии в будуаре». Только он мог бы понять лозунг «наслаждайся без помех» так, как следует его понимать: наслаждайся вплоть до уничтожения другого. Именно благодаря Саду секс стал в Европе законодателем, соединив эротическую вседозволенность с политической анархией, только в его случае это законодательство служит сильным, чтобы подавлять слабых и распоряжаться ими, как заблагорассудится, вплоть до истребления. Растворяясь в эйфории, эпоха ("60-ые") — за исключением разве что Батая или Бланшо — прочла «божественного маркиза» с наивным умилением и объявила его искусным мастером аранжировки барочных синтагм и изощренных предшественником патлатых ангелов кротости, трахающихся в дыму марихуаны под вибрирующие звуки кайфовой музыки» — Паскаль Брюкнер «Парадоксы любви»
Лучше и не сказать. Порнографичность Батая — плод того же дерева и в этом и есть особая прелесть: в откровенно сексуальном характере «Истории глаза» растворяются опасности о которых я написал выше. Это рассуждение о чувственности, дискуссия, поддерживая внутри себя которую возможно раз за разом возвращать себе невинность восприятия, разрушая гнет насилия.

Где-то я читал, что книга утопическая и это безусловно так. Это не чувственная, не сексуальная утопия, а утопия интеллектуальной раскрепощенности, свободы, которая определяется не через отрицание, не через необходимость, а как само существование.
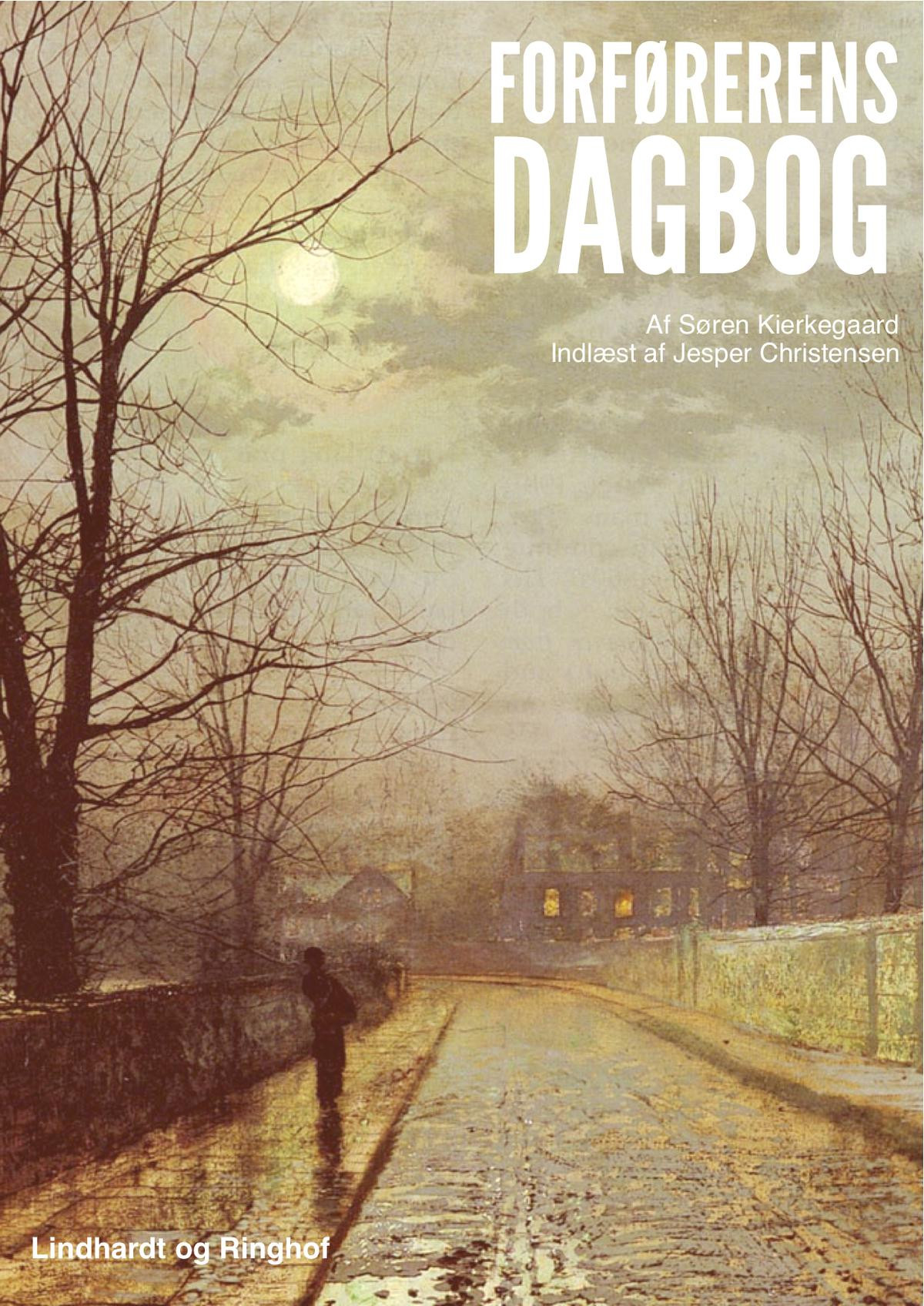
2. Серен Кьеркегор «Дневник обольстителя»
Сочинение исполнено в очень неожиданном для основоположника экзистенциализма жанре: «Дневник обольстителя» — это своего рода учебник по пикапу. Объектами манипуляций, впрочем, там служат не только женщины, но и друзья, окружение и прочее. Здесь нам представлена история обольщения. Причем, не соблазнения, а именно обольщения — для героя главным является «наслаждение в
Может быть, это самый легкий для чтения текст Кьеркегора, и это не удивительно: создание интриг, которые плетет главный герой сопровождается детективным напряжением, почти саспенсом. Самое забавное, что несмотря на некоторое эротическое напряжение, никакой «клубнички» представлено не будет. Вся описанная история — это игра в «получится-не получится» (отдастся Корделия или нет — и когда понятно, что она отдастся, уже совсем не интересно и пока).
Хрупкий мир человеческого чувствования представлен с, может быть, большей, чем у Пруста подробностью и достовреностью. Все эти взгляды, полунамеки, письма, которые ведут к реальным ситуациям, поломанным судьбам, разрушенному душевному здоровью — «Дневник» описывает именно эти тонкие взаимосвязи.
Выводы сделанные на этом тексте учат не только делать тончайшие наблюдения, но и пользоваться ими для достижения своих целей. Подход к любого рода отношениям как к политической задаче — крайне важный инструмент в юношестве, который, когда нужно, спасает, а когда нужно, подсказывает как и когда нанести решающий удар.
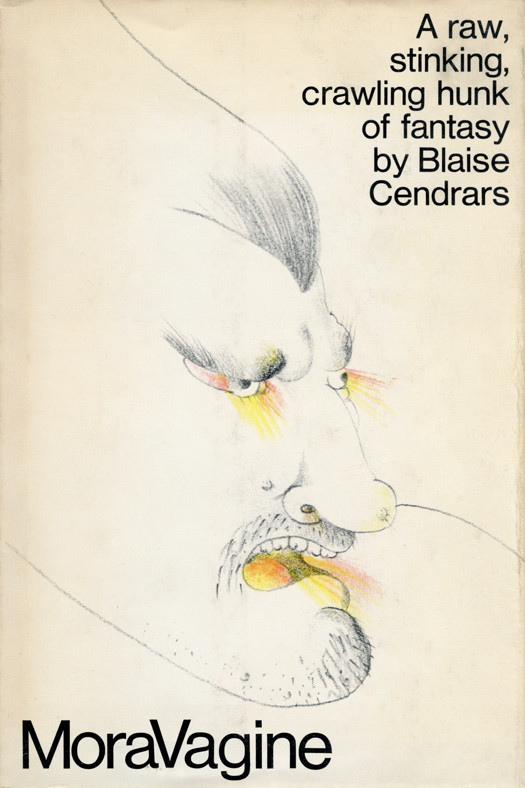
3. Блез Сандрар «Moravagine» («Принц-потрошитель или Женомор»)
Во Франции (он швейцарец, так что во франкофонном мире) Блез Сандрар достаточно известный поэт, уровня не меньше Превера или Апполинера, однако в России (русскоязычном мире) он как-то не то чтобы известен. Переводить его стали совсем недавно.
Как и почти во всех описываемых тут текстах, здесь очень много насилия. Это авантюрный роман, описывающий приключения двух мужчин, которые встретились в психиатрической лечебнице. Один был ее сотрудником, а второй, Женомор, был заключен туда за паталогическую страсть к убийству женщин. Первый оказывается очарован вторым и помогает ему бежать и сам присоединяется к его странствиям. Они посещают Россию (где становятся свидетелями и участниками первой русской революции), Северную и Южную Америку. Везде у них очень веселые и кровавые приключения.
Как и любой другой русскоязычный читатель, я почти ничего не знал про Блеза Сандрара, но сейчас на Википедии прочитал, что он посещал все места, которые описывает. Это объясняет достоверность и убедительность всего что он пишет, в частности про Россию, эсэров и терроризм.
Сам роман восхитительно поэтичен, неоднозначен, имеет непростую структуру и изобилует «диссонансными метфорами». Как несложно догадаться, он крайне антипсихиатричен, причем, как-то удается соблюсти грань и не оправдывать насилие. Это действительно такой слешер, где с одной стороны веселье и кровавые приключения, а с другой тонкое рассуждение о природе насилия, психиатрии и медицине в целом. Это потрясающий манифест описывающий цивилизацию как институциализацию насилия.
Представляет важным в юном возрасте определить свои отношения с насилием, осознать его скрытые проявления.
Роман предлагает великолепные, подходящие к разным случаям жизни формулировки. Например, вот:
«То, что принято называть здоровьем, в конечном счете всего лишь некий сиюминутный аспект болезненного состояния, но перенесенный в абстрактный план и тем самым уже преодоленный, окончательно и повсеместно распознанный, а затем вытесненный в подсознание»
Эту книгу мне подарила подруга и это лучший способ, которым она может достаться.
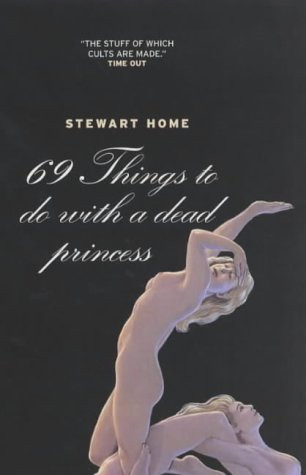
4. Стюарт Хоум «69 Things to do with a dead princess»
Книгу мне посоветовал хороший друг. Она тоже рискует быть не такой уж неочевидной (выходила в серии «Альтернатива», тираж аж 5000!)
Первая часть книги выглядит почти идеально: девушка сходится с неким юношей, они начинают жить в
Все, что касается литературы там крайне остроумно:
Согласно Бодрийяру все стало очевидным, непристойным, и не было больше никаких секретов. Алана не убедили эти заявления. Алан не хотел жить после оргии, он даже не хотел пережить смерть оргии, для него оргия истории не имела ни начала, ни конца. Он хотел деконструктивировать деконструкцию, принести в жертву жертвоприношение, совратить совращение и симулировать симуляцию. Он читал Жирара, Батайя, Маркса, Гегеля, Делеза, Лукача, Хоббса, Вирильо, Жижека и Иригарари. Алан хотел быть непоследовательным в своей непоследовательности. Чем больше он читал, тем меньше ему нравилось чтение. Деррида стал огромным разочарованием. Изучив последователей Дерриды, ему не было нужды доставлять себе раздражение чтением “О грамматологии”. Он усвоил содержание раньше, чем потребил его, и после Дерриды казалось бессмысленным перечитывать Руссо или Леви-Стросса. Чем больше Алан читал, тем меньше ему нужно было читать.
<…>
Такой французский теоретик, как Бодрийяр, мог быть переведен на английский каким-то незначительным издательством, типа Semiotext (e), с минимальной корректурой и распространением, и ты даже не успевал узнать об этом, как тут же переводы изблевывались издательствами Verso, Polity, Pluto, Stanford и Routledge. Сходные вещи случались с Делезом и Дерридой, тогда как Барт и Фуко становились классикой “Пингвина”. Тебе не надо было следить за этим. Если бы ты даже захотел это отслеживать, то все равно бы не смог.»
Мне очень близко отношение к литературе и популярной философии как к материалу из которого состоит ткань реальности, и одновременно эту ткань нарушающим. Нет ничего кроме литературы, но все что есть — что угодно, кроме литературы.
Это самый новый из описываемых здесь текстов, поэтому я написал о нем меньше всего и привел самую здоровенную цитату.
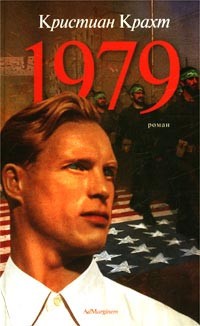
5. Кристиан Крахт «1979»
Эту книгу я приобрел так: я был в книжном магазине, мне понравилась обложка, открыл последнюю страницу («Я был хорошим зеком. Я никогда не ел человеческого мяса»), и тут же побежал покупать. Почему-то никто в моем окружении не знал о Кристиане Крахте, а между тем это действительно выдающийся писатель и читать у него нужно все. Мне везет и только про единственную вещь я могу точно сказать, что у меня ее украли — это книга Крахта «Империя».
1979 — китчевый роман, который начинается с описания богемной жизни западных посольств в Иране перед самой революцией. Это вообще удивительная тема — ее еще только предстоит подробно изучить. Судя по всему, 60-70-е годы являлись таким классическим распадом империй, который ярче всего проявлялся в жизни западных посольств на Востоке. Самый, кажется, недооцененный (непрочитанный, прежде всего) роман 20-го века — «Эммануэль» — ровно об этом же.
Двое молодых людей (не очень понятно какие между ними отношения) бездельничают в Тегеране от одного приема к другому. Главный герой пытается как-то
Это роман прежде всего об истории, которая тут, кажется, является синонимом реальности, грубо вмешивается в жизнь и судьбу. Приходилось читать, что это роман о конце западного мира, это, конечно, чушь.
Это пародия на
Очень мало таких текстов, которые ничего не утверждают, не передают, не доносят. А ведь это самое главное в литературе.
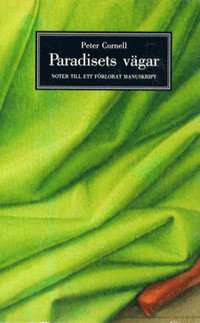
6. Питер Корнель «Пути к раю»
Это единственная книга из этого маленького списка, где нет ни извращенного секса, ни убийств, ни насилия физического или психического.
Это тонкая, милая, прекрасная книга из мира настоящей гуманитарной науки (один мой товарищ описывал гуманитарные науки как старую коммунальную квартиру, заполненную старинными книгами и артефактами — в противовес жесткому корпоративному миру социальных наук).
Это такой типичный пример фикшна постмодерна. Нам представлен не сам роман, а примечания к нему, только научный аппарат. Не текст, а сноски. Очень круто сделано (в отл. от почти всех остальных попыток такое сотворить). Стоит ли говорить о том, насколько жалкими выглядели попытки написать настоящий роман по этим комментариям.
Как раз здесь можно получить исчерпывающее представление о мире гуманитария, это идеальный продукт жизни книжного червя. Лабиринты, паломничества, Гастон Башляр, путешествие Фрейда к Везувию, Поллок, Фома Аквинский, город и раковина, средние века, современное искусство. Я не видел более яркого, красивого, убедительного и наглядного объяснения взаимосвязанности всего этого.
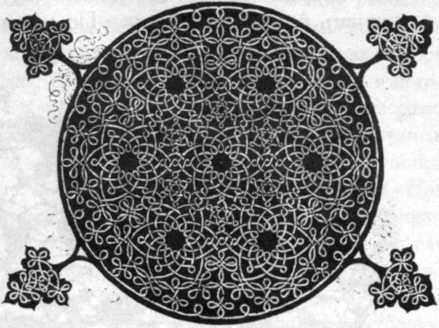
Несколько лет «Пути к раю» служили вдохновениями почти всему, что я писал. Я сначала это скрывал, но потом перестал. Эту книгу я просто однажды нашел в багажнике машины, как она там очутилась, я не знаю. Не помню чтобы я ее покупал или доставал откуда-то. Тем приятнее.
Понятно почему так мало людей любят Корнеля. Он чуть более научен, чем Борхес (обожал его в 17 лет), но чуть менее серьезен, чем Вальтер Беньямин (к нему я пришел в 19).
В моем идеальном мире каждый человек пишет нечто подобное на основе своих сугубо узких интересов.
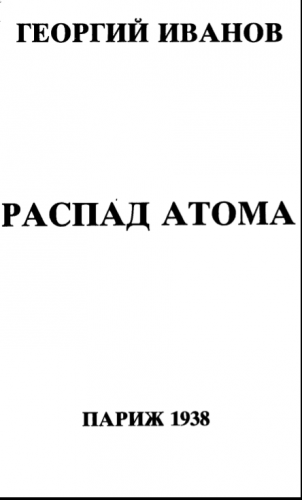
7. Георгий Иванов «Распад Атома»
«Распад Атома» — это не роман, не повесть и не поэма (хотя автор и даже Ходасевич говорили «поэма»). Это просто вынырнувший
Я столкнулся с этим текстом в сборнике «Русский эрос», к которому я обратился в поисках «клубнички». Однако «Распад атома» оказался гораздо более значимым приобретением.
Это одновременно утверждение чего-то нового (новой эстетики), нового восприятия мира, и при этом горечь по поводу невозможности применения старой.
«На холмы Грузии легла ночная мгла» — хочет она звонко, торжественно произнести, славя Творца и себя. И, с отвращением, похожим на наслаждение, бормочет матерную брань с метафизического забора, какое-то «дыр бу щыл убещур».
В минуты экзальтации я могу сказать, что этот текст — вершина русского языка, причина, по которой он был создан и развивался. Это, конечно, далеко от истины. А иногда мне хочется просто причислить эту книгу к сомну различных «подростковых» текстов о том что мир и жизнь бессмысленны, давайте попечалимся.
Там много есть разных образов из «эстетики отвратительного»: совокупление с мертвой девочкой («Она лежала как спящая»), поедание булки, пропитанной мочой — такие вещи происходят там. Однако более всего там просматривается нежность к миру изначальному, который теряется за новой физикой, новым мировым порядком. Все это выраженное в простых фразах: «История моей души и история мира. Они сплелись и проросли друг в друга. Современность за ними, как трагический фон. Семя, которое не могло ничего оплодотворить, вытекло обратно, я вытер его носовым платком».
Я думал, будет весело писать про «Распад атома», ведь так получилось, что это почему-то единственное сочинение написанное на русском языке здесь (не потому ли, что любой русскоязычный текст кажется нам очевидным?), но стало так невыносимо грустно! Как и должно быть от чтения этого текста. Только грусть делает юношей глубже.

Как видно даже по этому скромному списочку, парадокс воспитания в том, что это очень часто пограничный опыт. Но при этом не любой пограничный опыт имеет воспитательные коннотации.
Сложно не думать о силе влияния, которое оказывают те или иные тексты. Кажется, что настоящее влияние было бы настолько глубоким, настолько сильным и непреодолимым, что его было бы невозможно пережить (или изменения были бы настолько сильны, что после них не осталось бы ничего прежнего).
Поэтому мне приятно думать о том, что тексты, которые окажут на нас самое большое влияние, мы никогда не прочтем (но проведем всю жизнь в поисках).
