Кладбище нашей речи

За три года до того, как в печати появилась книга «Памяти памяти», «Новое издательство» поочередно выпустило еще две небольшие книжки Марии Степановой — сборники ее эссе и статей. Тексты первого из них — «Один, не один, не я», — затрагивающие широкий круг тем, печатались в разных изданиях с 2005 по 2013 год. Тексты второго, совсем небольшого по размерам, концептуально объединены вокруг политических событий 2014 года и изданы под названием «Три статьи по поводу».
Оба этих сборника, если смотреть на них из сегодняшнего дня, так или иначе кажутся предисловием, дополняющим и во многом комментирующим главный прозаический труд Степановой. Вероятно даже, что они способствовали его появлению, и что отчасти «Памяти памяти» Степановой — такой же результат ее публицистики, какой «Ада» Набокова — результат его лекций.
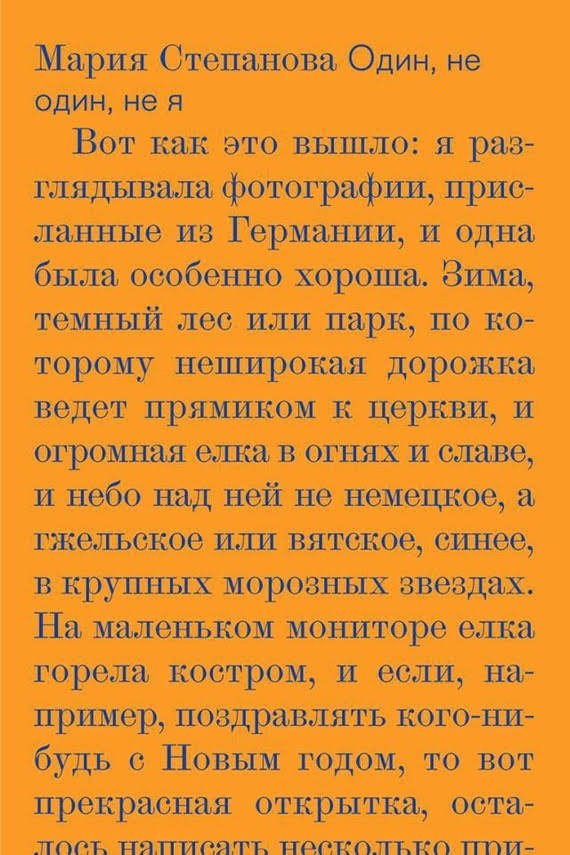
В обеих книгах проступают и часто накладываются друг на друга определенные ключевые темы, которые, несмотря на свою общую природу, артикулируются отдельно друг от друга. Мысль Степановой, нисколько не стесняясь по многу раз возвращаться к одним и тем же образам, лицам и мыслям, бесконечно кружит вокруг нескольких точек «собирающего» напряжения, неустанно расширяя таким образом поле их значимости и знаковости.
Центральная из этих точек — конечно, тема памяти. Ее Мария Степанова поднимает при любом удобном случае, во всех своих интервью и заметках, ссылаясь обычно при этом на книгу Марианны Хирш «The Generation of Postmemory». В этой книге американская исследовательница рассматривает и анализирует жизнь детей, чьим предкам не посчастливилось стать жертвами холокоста. Степанова утверждает, что выявленный Хирш на основе ее наблюдений феномен «постпамяти» на самом деле гораздо шире своей области.
Что это за феномен, «постпамять»? Это явление, когда рядового человека больше собственной жизни волнует прошлое его родителей. Интерес этот обычно сохраняется на всю жизнь, и происходит это потому, что главное наследство, которое такой человек получает от своих родителей, — их травма. Травма, с которой те по той или иной причине не разобрались, и теперь, как с завещанными долгами, делать это приходится ему. Этой травмой, считает Степанова, страдаем, как неизлечимой заразой, все мы. Неутихающий в России спор о прошлом страны — именно отсюда. Он — следствие «коридора непрекращающихся травм», которые вовремя не отрефлексировали и не «вылечили».
Опасность этого явления в том, что зараженный «постпамятью» человек с гипертрофированным интересом к давно прошедшему лишен не то что будущего, но и настоящего. И это не открытие, а простая констатация. Яснее всего это лишение проявляется на уровне языка, точнее — опять же — в его отсутствии: в любом публичном речевом акте мы продолжаем пережевывать объедки прогнившего советско-царского лексикона. Если появляется необходимость заговорить о сегодняшнем дне, то кругом — сплошная немота, вялое мычание и импотенция к власти. «Так разговор о вещах человеческого масштаба — ситуациях и проблемах, имеющих отношение к устройству сегодняшнего дня, — неизменно натыкается в
Важно, что, продолжая пользоваться протухшей, агрессивно-военизированной лексикой, мы тем самым действительно рискуем превратно реализовать известную пословицу о том, куда доводит язык. Потому что «речь, как всадник лошадью, правит говорящим, воспитывает его и меняет, и ей лучше знать, как надо». Такой логоцентризм имеет под собой серьезную основу. И не только в утилитарном смысле — когда сам акт высказывания приравнивается к действию, за которое несут ответственность, в первую очередь — уголовную.
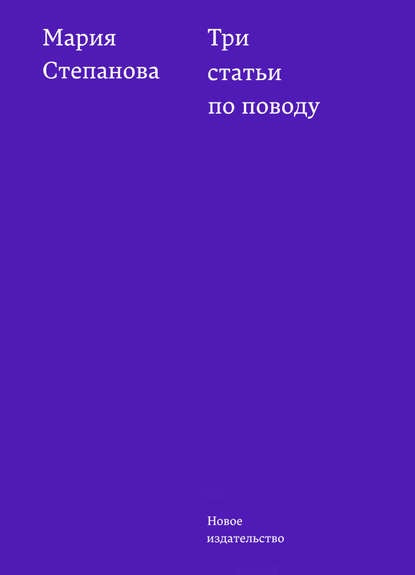
Степанова, как было сказано выше, нигде не акцентирует внимание на том, что с памятью неизбежно связаны еще две вещи, занимающие тем не менее — как и память — центральные места в ее творчестве. Эти вещи — документ (в самом широком смысле: как фиксация, как свидетельство) и смерть.
Смерть для Степановой — явление не метафизическое, а полностью онтологическое, посюстороннее. Она фигурирует в эссе как
Черта, которую подмечает для себя Степанова в его книгах, — уравнивание в правах значительных и незначительных вещей. Зебальд не различает события «важные» и «маловажные» (как смерть не различает тех, кого забирает). То, что он фиксирует в своей прозе, никак не мотивировано эксплицитно. Он останавливается на определенных вещах, следуя какой-то внутренней логике. Если следует ей вообще. Более того, в своей прозе он смешивает документ (фотографию, реальное имя, действительно бывшее название лавочки, настоящую историю, чье-то письмо) и вымысел. Эта техника совсем не нова, но у европейца Зебальда она работает по-особенному. «Все его книги, — пишет Степанова, — о чем бы они ни были, написаны со стороны и на стороне мертвых».
Такой способ письма и позиция самого Зебальда должны, считает Степанова, противостоять смерти-забвению. Противостоять желанию культуры упростить неимоверный объем прошлого, «убрать типовое, оставить штучное». Зебальд пытается охранить людей и вещи от небытия. Для этого он отходит на второй план и дает голос мертвым, тем, кто отсутствует, дает голос кладбищу. «Продлевать чужую жизнь сильнодействующими средствами речи — говорить за мертвых — старинный рецепт преодоления смерти, доступный пишущему». Опыт, проделанный самой Степановой в «Памяти памяти».

В конце своего эссе она цитирует эпитафии с надгробий одного итальянского кладбища, добавляя, что лишь «из точки смерти человеческая жизнь отбрасывается к своему началу и обретает финальную, только теперь проявившуюся осмысленность и четкость структуры». Но надгробные надписи, с датой в начале и конце, не единственный вид работающего таким образом текста. Интерес к прошлому обычно сопровождается усиленным вниманием к тому, что принято называть человеческим документом: к дневникам, мемуарам и письмам. Степанова считает, что сегодня интерес к документальной литературе гораздо выше интереса к художественной, — мысль, уже успевшая в силу своей верности стать общим местом.
Особенность документальной литературы в том, что она не дает читателю «позволить себе комфортную отстраненность». Если ты сталкиваешься со страданиями, то с реальными. Сделать шаг назад и перевести дух, сказав что-то вроде: «хорошо, что это не взаправду» уже не получится. Характерное для эпохи «постпамяти» желание окунуться в жизнь другого человека, разобраться в мельчайших деталях чужого быта, усиливается здесь тем, что Зонтаг называла «новой чувствительностью».
Степанова использует этот термин прежде всего применительно к современной поэзии. Она отмечает, что с девяностых по нулевые та проделала определенной путь: от сложных и утонченных стихотворений до элементарных строк, моментально вызывающих реакцию в душе читателя. Поэт теперь становится источником сильных эмоций, «новая чувствительность использует стихи как болеутоляющее средство, ожидая от них для себя прямой и внятной пользы», а «градус читательского доверия начинает соотноситься с уровнем авторской боли». С сожалением Степанова обнаруживает это упрощение и в своих стихах тоже.
Но вместе с тем, на примере других поэтов, она рассматривает еще один ключевой вопрос собственной поэтики — «отшелушивание» лирического «Я». Эту тенденцию отлично прокомментировал Григорий Дашевский в своей программной статье о современной поэзии. Отчасти опираясь на исследования Дени де Ружмона, он утверждает, что ярко выраженное присутствие «Я» в поле стихотворения — атавизм романтической эпохи.
«Романтический способ чтения — это такой, при котором мы автоматически под любое стихотворение как его тему подставляем себя». За этим всегда следует осознание своей исключительности и чувство уюта, комфорта. Стихотворение, кажется, обращено лично к тебе. Написано, чтобы ты мог «бормотать стихи в полумраке душевного уединения, сам с собой». Однако, как показывает Рене Жирар, которого Дашевский внимательно читал и переводил, «романтизм лжет — потому что, обожествляя себя, люди на самом деле обожествляют другого».
Говоря иначе, бытование такого типа поэзии в культуре, с ярко выраженным лирическим «Я», — признак ее романтизма. Воспроизведение романтической модели мышления, романтических отношений с реальностью, которым способствует романтическая же культура, всегда приводит к «обожествлению другого». Яркий тому пример — ситуация, когда «либеральная интеллигенция зачарована Путиным, а охранители и левые зачарованы либералами».
Таким образом, устранение «Я» из поэзии, ведущее к невозможности соотнесения себя с чем бы или кем бы то ни было, — это отказ от романтического способа мышления. Этот отказ в то же время происходит одновременно с отказом от цитатности — от общего культурного багажа, всего того невероятного объема культурной памяти или, говоря языком левых, от кладбища белых европейских мужчин. Ведь цитатность — еще один способ уютного сосуществования с самим собой; это бесконечное воспроизведение и пережевывание мертвого языка, импотенция к рождению нового, похороны мертвецов — мертвецами же.
В свою очередь поэзия без «Я», без цитатности и размера, — это речь, обращенная не к себе, но во внешний мир. Речь, обращенная к чужому, а не к твоим мертвецам. Речь, произносимая сейчас. В эту минуту. Это — публичная речь. Это — новый язык, который должен описывать современность, когда «ты будешь говорить сам с собою уже не в ритмическом и отчасти внутриутробном убаюкивании размера, а как если бы внутри у тебя существовал холод и голод публичного пространства». Это пространство, — верил Дашевский, — «голодное, холодное и освещенное, будет теперь создаваться параллельно — на площади, в суде, в парламенте, внутри человека и внутри стихов». Например, стихов Степановой.
