Борис Гройс о новой книге
Интервью было опубликовано на The Blueprint 24 апреля 2020 года.
В рамках совместной издательской программы музея «Гараж» и «Ад Маргинем Пресс» на русском языке вышла последняя книга Бориса Гройса, где собраны его эссе о главных художниках XX и XXI веков. Специально для The Blueprint большой философ рассказал о том, как его меняли разговоры с любимыми художниками, почему в интернете нет ничего нового и как не сходить с ума в самоизоляции.
Когда вы в последний раз выходили из дома?
Очень давно. 11 марта. И к своему пребыванию дома совершенно спокойно отношусь. Я домосед, и книг у меня потому много, что я не хочу ходить по библиотекам и стараюсь пользоваться своими. Я охотно сижу дома и особо не активен. Нужно сказать, что жизнь в

Сейчас всем бы пригодился ваш совет, как проводить столько времени дома и не сходить с ума?
У меня никогда не возникало такой проблемы: я даже больше люблю оставаться дома, чем выходить куда-то. Отчасти так происходит потому, что я всегда много читал, и чтение дома всегда было моим любимым занятием. Теперь я дома смотрю много кино, стал активно пользоваться платформами Netflix и Amazon Prime. Фильмы и сериалы мне очень нравятся, а в последнее время с большим удовольствием я смотрю перуанские и южнокорейские сериалы. Они дают совершенно другую культурную перспективу. Так что я с удовольствием себя развлекаю.
Не скучаете по людям, местам?
По людям — нет. А по местам… Раньше я много ездил. По Америке я ездил мало, но все мои американские поездки были очень интересными. Глубинная и провинциальная Америка оказалась для меня более интересной, чем Нью-Йорк. Америка в
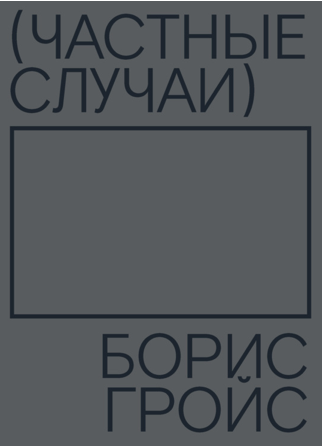
Вы думаете, мы теперь будем меньше путешествовать? Или глобальность необратима?
Конца коронавирусной истории пока не видно. Этот конец может появиться только тогда, когда появится очень эффективная вакцина либо очень эффективное средство для лечения коронавируса. Но если они и появятся, то через год или полтора. Специалисты из Гарварда или Стэнфорда считают, что ситуация продлится до 2022 года точно. Даже если экономика частично откроется, она точно не будет такой, как раньше: нет ощущения, что все, что связано с перевозками людей, с туризмом, с ресторанами и сферой обслуживания, быстро восстановится.
Коронавирус не создал новой ситуации, но он усилил те тенденции, которые уже были. Не так давно мы были с женой во Флоренции, где я должен был выступить с лекцией. Я не мог попасть в музей
Мой папа физик, и он верит, что сейчас начнется перестройка мира полностью в онлайн, перестройка, которая давно была возможна — но мы ей как-то по инерции сопротивлялись.
Насчет сингулярности дело обстоит довольно сложно. Дело заключается в том, что если посмотреть на интернет и соцсети, то можно заметить, что отдельные пользователи остаются в
Я привожу своим студентам следующий пример. В Германии, в отличие от Америки, сохранились небольшие и очень хорошие книжные магазины. С хорошо подобранной литературой. Эти магазины сейчас на грани выживания, а когда я спрашиваю, почему у них такие проблемы, они говорят, что люди приходят выбрать для себя новую книжку, находят ee, фотографируют обложку и покупают ее в Amazon. Получается, они находят новое в офлайн, а то, что уже знают, заказывают онлайн.
Интернет — машина тавтологии. Это зеркало наших желаний и наших потребностей. Это система сервиса. Она основана на том, что ты задал вопрос и получил ответ. Ты хочешь что-то купить, и тебе дают опции. Но ты остаешься в кругу своих уже имеющихся желаний, в интернете ты не находишь ничего нового.
А на улице ты видишь новые лица, так же, как когда ты идешь в магазин, ты видишь новые книги. Но ты не можешь их найти в интернете. Интернет как бы объединяет людей, но
В Москве не то чтобы последние десять лет были легкими, но мы могли радоваться достижениям шеринг-экономики — не привязываться ни к работам, ни к квартирам, ни к вещам. А сейчас мои друзья вспоминают маму, которая говорила, что нужно иметь стабильную работу, свою квартиру и свою машину. Вот каршеринг, например, сейчас полностью исчез. Думаете ли вы, что мир откатится в сторону ценностей бумеров?
Что касается «своего». Получается, то, что мама говорила, говорили и многие экономисты. Например, что не надо всю фармакологию переводить в Китай. Сейчас получается, что около 90% фармакологической продукции, потребляемой в США, производится в Китае. Дело не только в том, что это создает экономическую зависимость от Китая, а и в том, что это все нужно перевезти куда-то. То же верно и для сферы искусства. Самым успешным местом для продажи искусства в последнее время был Art Basel в Гонконге. Это значит, что, скажем, галерист Гагосян берет какие-то предметы, перевозит их в Гонконг, там их показывает — а потом везет обратно.
С другой стороны, мы сейчас видим феноменальный кризис национальных государств. Не проиграют ли они корпорациям?
Я думаю, что в ближайшем будущем возникнет острый конфликт между корпорациями и государствами. Например, конфликт между американскими властями и Facebook и Google вовсю разворачивается уже сегодня на экранах телевизора. Компании обвиняются в производстве фейк-ньюс, в том, что они дают платформу для сомнительных группировок и так далее. Есть и конфликт с Китаем на территории интернета. Конфликт корпораций и государства будет во всем мире. Мы вступаем в новую зону конфликта.
Вы недавно говорили в беседе с Арсением Жиляевым, что радикальное новое в искусстве есть отрицание того, что было раньше. Получается, что европейское понятие прогресса вы не признаете — вот этой воображаемой лестницы достижений человечества?
Идея прогресса — неприятная идея. Что такое прогресс? Это не инновация, это замена старого новым. У меня есть старый айфон, а теперь у меня новый айфон. Что это значит? Что я выкину старый?
Новый айфон точно лучше снимает.
Да, он лучше в
Искусство — это протест против прогресса. Особенно так было в XX веке. Малевич, например, говорил: идите и остановите прогресс. Революция — это на самом деле про возвращение: Французская революция была возвращением к Риму. Ренессанс — возвращение к античной культуре. Коммунизм — возвращение к обществу без частной собственности. Художественное движение — это всегда попытка остановить прогресс, или, точнее, создать другую последовательность, историческую параллельность последовательности прогресса.
Интересно, что музеи стали появляться даже в таких областях, которые раньше плевали на эту культуру. Например, Голливуд, спорт. Звезды Голливуда стали вкладываться в синематеку. Наиболее успешные, как Сталлоне, стали вкладывать большие деньги в музеи. В какой мере это будет происходить в интернете, сказать трудно: зафиксировать информацию в интернете крайне сложно, даже облака не очень надежны, а если вы хотите получить надежный хостинг, то это требует больших денег.
Кто может позволить себе хранить коллекцию в интернете? Уже существующие музеи. Крупные институты типа MoMA могут создать себе интернетные версии, а мелкие институции — нет. Последнее место, куда я пошел, перед тем как перестал выходить, — выставка Рема Колхаса Countryside в Гуггенхайме, где современную деревенскую жизнь он показывает в том числе в виде огромных хранилищ дигитальной информации. Они производят интересное впечатление: супрематические конструкции посреди пустыни.
Получается, что ваша книга «Частные случаи» в некотором роде музей, если в ней на соседних страницах вы рассказываете про современную русскую художницу Ольгу Чернышову и классика Марселя Дюшана — а между ними как бы и нет прогресса?
Да, конечно. Даже более того. Моя книга не просто музей, она — современный музей. Разница между современным и традиционным музеем в том, что традиционные музеи, как Лувр и, может быть, все еще отчасти Метрополитен-музей, рассказывают какую-то единую историю искусства. Если у вас хватает сил обойти эти музеи, то вы проходите путь «от бизона до Барбизона» и далее. В современных музеях этот канон утрачивается, и история искусства распадается. Вместо единой истории искусства вы видите множество индивидуальных или групповых конструкций. Они могут быть чисто художественными, они могут быть политическими. Например, феминистская история искусства рассказывается иначе, чем стандартная. То же самое можно сказать про постколониальное искусство, про искусство этнических меньшинств, таких как афроамериканцы или латинос.
Многие говорят, что сейчас происходит возвращение Средневековья. В Средневековье король, когда всходил на трон или имел какие-то претензии на власть, сочинял со своими советниками свою генеалогию. Она включала в себя Адама, Цезаря и даже Христа. Она проходилась по всем известным фигурам мировой истории, и потом она завершалась им лично. По такому принципу сейчас оперируют все художники. Они начинают с
Выходит, в качестве героев этой книги вы выбрали самых наглых безумцев, которые решили сами придумать себе место в большой истории искусства?
Проблема заключается в том, что если вы вообще не вписываете себя в мировую историю, то вы не художник. А занимаетесь чем-то еще, например, публицистикой. Когда вы занимаетесь наукой или когда вы занимаетесь искусством, то вы всегда ставите себя в
Из коллекции вас могут выкинуть. Это частое дело в мировом искусстве. Помните, какие были огромные государственные и частные коллекции французского салонного искусства в конце XIX века? Сейчас эти работы сохранились — я с удовольствием их смотрю, они есть в основном в латиноамериканских музеях, в частности, в
Этого никто до него не делал. Это был оригинальный исторический ход. Так что такое вписывание в мировую историю искусств — это то, что отделяет художника как профессионала от людей, которые просто интересуются чем-то красивым.

А как разговор с художниками меняет вас? Каждая критическая статья из этой книги — это результат ваших разговоров с художником и понимание того, как в его глазах выглядит мир. После того как вы в
И да, и нет. Всегда, начиная с моих студенческих лет, я искал чего-то другого и альтернативного. Я всегда искал то, что поставит мою обычную практику и мой взгляд на жизнь под вопрос. Я всегда как бы искал проблематизации моего собственного взгляда, и, конечно, меня интересуют художники, которыe это делают. Тогда я перестаю доверять себе в
Я не доверяю, вообще говоря, никакому современному взгляду на жизнь. И мне интересны художники, которые тоже относятся к этому с иронией и скепсисом. Вот, например, Кабаков мне очень понравился в 70-е годы, потому что он иронически относился к клише советской жизни того времени. Причем даже не столько к бытовой советской жизни, сколько к своему собственному кругу неофициального искусства. Если вы посмотрите его работы, они всегда ироничны по отношению к существующим представлениям об искусстве и представлению о художнике как таковом.
Скептический взгляд мне очень импонировал и продолжает импонировать. Все художники, о которых я пишу, обладают им в высшей степени, они не принимают ничего на веру. И здесь я думаю прежде всего о швейцарских художниках Петере Фишли и Давиде Вайсе. Думаю, что самая остроумная сторона их работы связана с эффектными репликами относительно работ других художников. Например, когда мы видим работу «Фонтан» Дюшана, то думаем, что художник действительно выставил реди-мейд. Собственно говоря, почему? Может быть, это подделка. В своих ранних работах Фишли и Вайс комбинировали реди-мейд и их имитации. На выставке на расстоянии, на котором обычно стоит зритель, реди-мейд и их имитации невозможно отличить друг от друга. Единственный способ различить их — взять их в руки, потому что реальные вещи весили больше, чем их имитации. Вот такие художники мне нравятся больше всего, которые способны поставить под вопрос наш привычный взгляд на вещи. Конечно, когда я встречаюсь с ними, то стараюсь поставить под вопрос свои собственные взгляды.

Хочется спросить, кто из героев книги лично вас как-то сильно изменил. Я подумала, что, возможно, еще в юности Кабаков стал для вас мерилом любимого искусства.
Мерилом никто не стал. Просто я знал очень многих художников в Питере и Москве, со многими знаком с середины 70-х годов. И мне казалось, что у них очень некритическое и прямолинейное отношение к тому, что они делают. Может быть, они делают это хорошо, но они слишком верят в то, что они делают. На меня произвел впечатление тогда Кабаков тем, что он скептически относился к тому, что делали другие, и к тому, что сделал он сам. Я думаю, что он не стал для меня мерилом, а просто ответил на мой внутренний скептицизм в отношении этой наивной веры в то, что делали другие художники. Я тоже скептически отношусь к тому, что сам пишу.
Тут я бы упомянул Франсиса Алиса. Я помню, как впервые увидел его работу, и она мне очень понравилась. Это было видео. Дело происходило в Мексике, художник толкал перед собой большой куб изо льда, идя по улицам Мехико. Куб становился все меньше и меньше и в конце концов полностью растаял. Было понятно, что в тот момент он толкал как бы историю большого искусства — от супрематистов и конструктивистов до американских минималистов. Алис толкает нормативное искусство, но оно тает у него на глазах. Это была метафора ситуации искусства в современном мире. Она меня впечатлила, и я стал следить за его работами. Одна из его работ, которая мне очень нравится, называется «Вера передвигает горы». Он пригласил людей, чтобы они сдвинули гору с одного места на другое. Они ее сдвинули, но в сущности ничего не изменилось. С одной стороны, это Сизифов труд. А с другой стороны, то, как он это документирует, делает эту работу поистине героической. Мне кажется, двигать горы — это очень хороший комментарий к современной цивилизации вообще. Может быть, самый лучший комментарий.
Получается, что ваши герои иначе переживают время, чем условно те художники, которые успешны на рынке?
Нельзя сказать, что они так уж неуспешны. Дело в том, что искусство амбивалентно. Каждое произведение искусства — это высказывание об истории искусства, o какой-то среде или специфическом контексте. И в то же время это вещь. Это какой-то предмет, который можно купить и потом продать, так же как любой другой предмет. Искусство постоянно балансирует между этими двумя возможностями. Одна возможность — это говорить о
Художник обычно стремится найти этот баланс, каждый сам для себя. В своей работе я так или иначе реагирую на некоторое высказывание. Если человек ничего не хочет сказать, а просто хочет продать, то ответ на его желание будет или купить, или не купить. Сказать по этому поводу особо нечего.
Когда зашла речь о желании вписать себя в историю, я вспомнила, как брала интервью у Комара, и он сказал, что художник, который думает о бессмертии, никогда не бывает одинок: у него все время происходит диалог с

Это абсолютно верное замечание. Когда ты сам пишешь, у тебя возникает мысль — а вот что сказал бы Платон, если бы он это прочел. Это на самом деле очень стимулирующая мысль. Потому что то, что сказали бы те люди, которые тебя окружают в современности, более или менее понятно. Потому что ты с ними общаешься регулярно. А вот точка зрения Платона интересна. Она проливает новый свет. Это присутствие прошлого и оценок с точки зрения прошлого — решающая для искусства философия. Джереми Бентам в свое время предложил всех известных философов мумифицировать и привозить их на всякие ученые заседания, чтобы в присутствии, скажем, Канта вам не захотелось говорить глупостей.
Многим моим знакомым кажется, что вы человек очень философской природы, — и трудно представить, как вы занимаетесь обычными бытовыми делами. Что вы любите есть на завтрак?
Вообще-то я люблю поесть и выпить хорошее красное вино. Я люблю итальянскую кухню. Когда были рестораны, я туда с удовольствием ходил. Но в то же время я человек философского склада, это правда. А людей философского склада вообще легко порадовать. Люди другого склада без конца мучаются и думают, что бы нового сделать: например, поехать в Таиланд, заняться дайвингом. А у меня нет таких желаний. Пойти погулять, когда светло, тепло и светит солнышко, или сходить в музей работы посмотреть — вот мои главные радости в жизни.
Чувствуете ли вы себя, кстати, модным философом — именно в смысле того, как вы одеваетесь? Следите ли за модой?
Я начал выступать с лекциями на Западе с середины 80-х годов. К тому времени эпоха общей моды уже закончилась. В каждом кругу была своя мода. Я одевался согласно тому, как это было принято в художественной системе. И конечно, следил за тем, как эта мода менялась. Впрочем, она на моей памяти не очень менялась.
Текст: Марина Анциперова.
