Аленка Зупанчич. Ложь на кушетке
Текст впервые опубликован в журнале Лаканалия № 31 «Черта»(2019).
Каким образом концептуальные рамки психоанализа могут помочь нам понять тесную связь между культурой и ложью? Или, более конкретно, что может сказать психоанализ о некоторых видах лжи (таких как «вежливая ложь» или «невинная ложь»), существенных для (нашей) культуры?

Давайте начнём с некой «фундаментальной истины»: нельзя рассматривать вопрос лжи отдельно от вопроса об истине. И не потому, что они всегда идут вместе как антонимы, поддерживая друг друга в речи, как две стороны одной медали. Их отношения гораздо интереснее, и они отнюдь не симметричны. В некоторой степени культурная «феноменология лжи» берёт своё начало в проблеме, внутренне присущей истине. Если бы истина не была сама по себе проблематичной, если бы можно было высказать «истину, всю истину и ничего, кроме истины», не было бы необходимости обсуждать культуру лжи. Я вовсе не пытаюсь играть в старую релятивистскую или софистическую игру: «Как мы можем говорить о лжи, если мы не знаем, что такое истина? Что, если, произнося то, что мы считаем ложью, на самом деле мы высказываем истину? Как, к примеру, может врач сказать “всю правду” пациенту о наборе симптомов, их причинах и возможных последствиях? Разумеется, он и сам не знает всего, что нужно знать. И даже если бы он знал, и т. д. и т. п.» Я не предлагаю размышлять над вопросами такого рода, чтобы в итоге прийти к скептической мудрости: «Но что такое истина и что такое ложь?». Такого рода «бездонная рефлексия» имеет мало отношения к нашей повседневной практике речи. Я пытаюсь подчеркнуть нечто иное. Во-первых, истина и ложь не симметричны. Если ложь и противоположна истине, то это справедливо лишь для очень небольшого сегмента того, что называется ложью, сегмента, который как раз не особо значим для обсуждения «культуры лжи». Измерение истины более фундаментально, чем измерение лжи: не в
«Разумеется, есть истина как простая противоположность обмана, но есть и другая, которая превышает их или обосновывает их обоих и которая связана с самим фактом формулирования, поскольку я не могу высказать нечто, не позиционируя это как истину. И даже если я говорю: “Я лгу”, я говорю не что иное, как “Это истина, что я лгу” — вот почему истина не противоположна обману. Или же мы можем сказать, что есть две истины: одна противоположна обману, а другая безразлична как к истине, так и к обману»[1].
Другими словами, измерение истины является необходимым фоном лжи, причём в обратную сторону это не работает. Так что измерение истины следует отличать от точности. Удвоение истины имеет важные последствия для лжи, так как оно вводит расщепление в саму ложь: ведь можно также сказать, что ложь нельзя свести к обману или отождествить с ним. Но, опять же, это двойное измерение лжи не симметрично измерению истины. Ложь как отличная от обмана — это не что иное, как эффект истины, который обман может производить на уровне речи (то есть на уровне формулирования лжи).
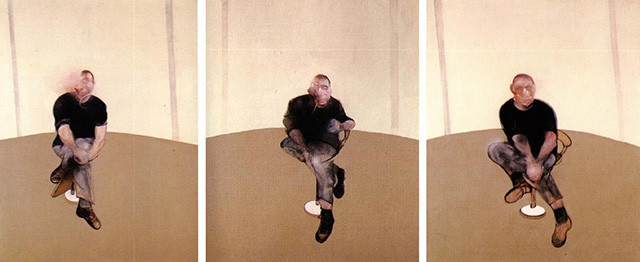
Чтобы более детально продемонстрировать это (асимметричное) переплетение истины и лжи, возьмём в качестве примера две стратегии, которые часто встречаются как в психоанализе, так и в повседневной практике речи, а именно, «лгать, говоря правду» и «высказывать истину посредством лжи». Эти две стратегии были бы невозможны, если бы ложь и истина были просто симметричны и если бы истина не располагалась сразу на двух уровнях. Потому что «лгать, говоря правду» значит лишь «лгать, будучи точным», то есть лгать, высказывая что-то, что само по себе является верным. А «высказывать истину посредством лжи» значит «высказывать истину посредством обмана».
Обе эти стратегии очень ярко показывают ещё одну особенность, которую мы в этой работе должны учитывать: когда мы говорим, и особенно когда стоит вопрос о том, сказать истину или солгать, мы учитываем позицию (знания, ожидания) другого (нашего собеседника).
Часто бывает, пишет Фрейд, что невротик навязчивости, который уже был посвящён в значение своих симптомов, говорит что-нибудь вроде: «У меня появилась новая навязчивая идея, и мне сразу пришло в голову, что она может означать то-то и
Что здесь важно отметить, так это то, что если такого рода «ложь, говорящая правду» и «высказывание истины посредством лжи» ясно иллюстрируют механизм «учитывания другого», это не должно склонять нас к тому, чтобы сводить ситуацию к (чисто) дуальным отношениям двух субъектов. Другими словами, в этом участвует не один другой. Ложь никак не может быть сведена к дуальным отношениям между субъектом, высказывающим (неправдивое) сообщение, и субъектом, его воспринимающим. В тот момент, когда два субъекта обращаются друг к другу посредством означающих, мы всегда имеем дело с нередуцируемым третьим измерением или инстанцией. Когда я принимаю в расчёт другого (слушателя), то есть когда я учитываю его знания, убеждения, его «словарный запас» и т. д., фактически я учитываю его позицию по отношению к этой третьей инстанции. Это совершенно ясно из предыдущего примера с Дорой, использующей слово Schmuckkästchen, а также из случая невротика навязчивости, утверждающего, что нечто не может быть истинным, поскольку это противоречило бы «психоаналитическому знанию». Иначе говоря, когда я лгу другому (своему ближнему, моему воображаемому двойнику), я всегда делаю это посредством символического Другого. И можно сказать, что для того, чтобы другой «проглотил» эту ложь, она должна производить эффект истины в Другом. Или, точнее, чтобы моя собеседница «проглотила» мою ложь, она должна не просто поверить мне, она должна поверить в то, что Другой верит. Ложь требует структуры (и поддержки) символического Другого в качестве условия своей возможности. Когда Лакан настаивает на том, что место Другого является местом истины, — истины, не имеющей противоположности, — он имеет в виду именно это.
Теперь давайте обратимся к другой черте, определяющей отношения между ложью и истиной. В измерении речи истина не только более фундаментальна, чем ложь (в том смысле, о котором мы говорили выше), но она также и проблематична сама по себе, её преследует присущая ей невозможность. Лакан формулирует эту невозможность в своём известном высказывании о том, что «истина не-вся» (pas-toute), и о том, что «высказать истину целиком просто невозможно»[2]. Это не имеет никакого отношения к частым прагматическим или эмпирическим возражениям против этого требования: говорить «всю правду». Это не имеет никакого отношения к утверждению, согласно которому мы никогда не можем высказать всю правду, поскольку мы никогда не знаем всей правды, а также к утверждению, согласно которому даже высказать всё, что мы знаем, — это уже задача, которую невозможно полностью осуществить. Лакановский тезис подразумевает нечто совершенно иное и связанное с предыдущим обсуждением: то, что делает истину не-всей, это то, что она одновременно является и конститутивным измерением речи как таковой, и чем-то внутри речи. Точнее, то, что делает её не-всей, это тот факт, что в области нашего разговорного языка невозможно просто развести эти два уровня, на которых действует истина, и рассматривать их отдельно друг от друга.

Совершенно независимо от Лакана и психоанализа логики пришли к тому же заключению. Тарский, к примеру, показывает,
«что истина неопределима в пределах языка, на котором говорят. Чтобы её определить, необходимо выйти за пределы этого языка, как это происходит в формализованных языках, которые пронумерованы и иерархизированы; на уровне n+1 вы устанавливаете истину уровня n; это разъединение уровней, которое Карнап называет метаязыком, не может осуществляться в случае языка, на котором мы говорим, поскольку он не формализован»[3].
«И в этом, — добавляет Миллер, — заключается смысл лакановского афоризма о том, что метаязыка не существует», так же как и его высказывания о том, что истина — не-вся. Истина об уровне n возникает на уровне n, истина о том, что мы говорим, является частью того, что мы говорим, и это то, что не даёт ей быть закрытой, полной сущностью.
То, что истина не-вся, не подразумевает, что высказывание не может высказать всего, что можно сказать, что всегда есть что-то, чего не хватает, что-то, что не может быть высказано, или что не удаётся высказать. Проблема, скорее, в обратном: говоря истину, мы говорим больше, чем истину. То, что постоянно препятствует возможности высказать «истину целиком», это не нехватка, а избыток, излишек, липнущий ко всему, что мы говорим. Уровень акта высказывания нельзя отделить или исключить из того, что высказывается, он к этому прилеплен. Если бы истина не была конститутивным измерением речи, то есть если бы она не была измерением, внутренне присущим речи, если бы её можно было разместить где-то вне речи, то не было бы никаких проблем с тем, чтобы высказать «истину, всю истину и ничего кроме истины». Но поскольку это не так (и поскольку речь это не просто инструмент, который мы можем использовать для выражения всего, что мы хотим выразить), истина спотыкается. И проблему культурной «феноменологии лжи» нужно рассматривать на этом уровне, как проистекающую из (или, по крайней мере, в
Фрейд обращается к этой проблеме в одной из его редко обсуждаемых работ: «К истории психоаналитического движения»:
«Слишком хорошо известно, что только немногим удается в научном споре держаться в пределах приличия и, еще менее — не отклоняться от сути вопроса, у меня же всегда было отвращение к научной перебранке. Возможно, что такой образ действий с моей стороны послужил причиной для недоразумений: меня стали считать таким добродушным или даже запуганным, что не приходилось уже более уделять мне сколько-нибудь внимания. И это совершенно неправильно: я так же хорошо умею браниться, как и всякий другой, но я не обладаю умением облекать в литературную форму лежащие в основе всего этого аффекты и поэтому предпочитаю полное воздержание от брани»[4].
Что значит «облекать в литературную форму лежащие в основе всего этого аффекты»? Это не значит их скрывать. Это значит формулировать их таким образом, чтобы они не затмевали того, о чём идёт речь на уровне высказывания. Чтобы якобы научный спор не звучал как: «Вы идиот!» — «Вы кретин!» — «Вы тупица!». Разговор об этом напоминает, что в своём анализе «Человека-Крысы» Фрейд приводит превосходный пример ситуации, где уровень акта высказывания получает полное преимущество над уровнем высказывания. В высказываниях вроде «Идиот!» или «Кретин!» связь между их «содержанием» и оскорблением всё ещё сильна, что делает сам этот поворот менее очевидным, поскольку мы могли бы решить, что оскорбительным является только значение слов. Фрейд описывает эпизод из детства Человека-Крысы: когда тот был маленьким мальчиком, он совершил что-то плохое, за что отец решил его высечь. И когда он это делал, малыш пришёл в ярость и начал выкрикивать оскорбления в адрес своего отца. Но поскольку он не знал никаких ругательств, он называл отца наименованиями всех бытовых предметов, какие приходили ему в голову, и кричал: «Ты лампа! Ты полотенце! Ты тарелка!» (Du Lampe, du Handtuch, du Teller). Здесь мы имеем дело с самым буквальным примером того, что подразумевается под словом «обзываться». Также это хороший пример того, как «невинные» означающие («лампа», «полотенце», «тарелка») могут производить, на уровне акта высказывания, что-то вроде: «Ненавижу тебя! Ненавижу тебя! Ненавижу тебя!».

Во многих ситуациях вежливая ложь используется, когда существует риск существенного расхождения между уровнем акта высказывания и уровнем высказывания. Приведём другой пример «вежливой лжи». Скажем, я
Бывают ситуации, когда мы ясно чувствуем, что, будучи искренними и говоря правду, мы говорим больше, чем правду. Более того, мы можем чувствовать себя более искренними — по отношению к стоящему перед нами человеку — когда лжём из вежливости, а не когда говорим голую правду. Но в чём именно заключается эта «более чем правда»? Грубо говоря, можно сказать, что прямой ответ не позволяет поддерживать дискуссию на уровне того, что обсуждается. Он легко переходит границу между связанным со мной объектом обсуждения и мною самой. То есть он может восприниматься как проявление враждебности не только по отношению к моему выступлению, но и по отношению ко мне. Бывает крайне сложно сказать человеку в лицо: «Твой доклад был чудовищным», не говоря при этом что-то вроде: «Ты некомпетентный, тупой и скучный…», или даже: «Ты самозванец». Более того, довольно сложно бывает высказать это так, чтобы не сказать при этом: «Терпеть тебя не могу», или даже: «Ненавижу тебя». Это значит, что линию легко можно пересечь и в другом направлении, в направлении того, кто произносит высказывание и говорит о себе самом больше, чем намеревался. Как правило, в нашем повседневном общении невозможно полностью отделить уровень акта высказывания от уровня высказывания, и именно отсюда проистекают описанные выше проблемы. Также невозможно отделить то, что говорится, от эффекта, который сказанное производит в другом. Вежливая ложь — один из устоявшихся способов решения этой проблемы. Но давайте попробуем более серьёзно разобраться в этой проблеме или, точнее, в том, какие могут возникнуть проблемы в связи с вопросом о правдивости. Я попытаюсь выделить и концептуализировать одну из таких проблем, или аспектов, которая хоть и не является единственной, но всё же на ней лежит ответственность за существенную часть вежливой лжи, и она особенно значима для обсуждения отношений между культурой и ложью.
Есть что-то, что лучше всего было бы назвать «непристойностью истины» или, точнее, непристойностью правдивости. Я использую понятие непристойности примерно в том же смысле, что и Арон Рональд Боденхаймер в книге Warum? Von der Obszönität des Fragens («Зачем? О непристойности задавания вопросов»)[5]. Боденхаймер показывает, что есть непристойность, присущая вопросам, самому акту вопрошания, независимо от содержания самого вопроса. (Например: «Почему ты играешь со своей ручкой?», «Что ты хочешь этим сказать?», «Ты меня любишь?», «О чём ты думаешь?»…) Боденхаймеровское определение непристойности состоит в том, что она имеет место в ситуации, когда какие-то стороны моей личности — те, которые я обычно скрываю от других или от самой себя, — раскрываются напрямую, при том, что я не была готова к их обнародованию. Я не могу предотвратить своё выставление напоказ. В ситуации непристойности мы видим акт выставления напоказ с одной стороны и эффект стыда с другой. Дополнительной чертой непристойности, пишет Боденхаймер, является то, что тот, кто её совершает, не признаёт того, что он сделал. Скорее, он добавит к уже существующей ситуации стыда ещё одну непристойность, спросив, например: «Что с тобой? Что-то не так?».
В том, что касается вопроса о вежливой лжи, мысль Боденхаймера полезна нам в двух отношениях. Во-первых, она помогает нам обнаружить аналогичное измерение непристойности в определённых обстоятельствах высказывания голой правды. Во-вторых, в большинстве своём вежливая ложь — это, собственно говоря, ответы на вопросы. Возвращаясь к предыдущему примеру: если я прямо спрашиваю у
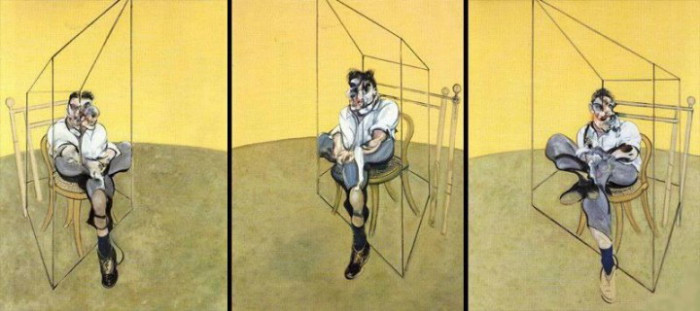
В дополнение к аргументу Боденхаймера я бы сказала, что непристойность задавания вопросов действует не только на уровне разоблачения другого (того, кому вопрос адресован), но также и на уровне разоблачения самого спрашивающего. Другой может оказаться в трудном положении (почувствовать смущение или стыд)
Вывод, который можно из этого сделать, заключается в том, что большая часть невинной или вежливой лжи связана в первую очередь с понятием приличия. Я оставляю в стороне другие интересные случаи культурной лжи, например ложь из гостеприимства, чьё функционирование следует иной, хотя и не совершенно иной, логике. Кроме того, есть ложь, посредством которой мы пытаемся избежать эффекта «самоисполняющегося пророчества», которое могло бы сбыться, скажи мы открыто то, что думаем. (Например, у нашей подруги новый любовник, и для нас очевидно, что их отношения обречены. Но мы не скажем этого, если нас спросят, потому что знаем, что наше высказывание «Ваши отношения обречены» само может привести к катастрофе, которую оно предсказывает и которой, благодаря каким-нибудь неизвестным нам обстоятельствам, возможно, удастся избежать.) Помимо этого, существует то, что я бы назвала учреждающей ложью: как правило, она принимает форму провозглашения. Есть (по меньшей мере) два вида провозглашений. Один можно просто и более или менее полностью отождествить с перформативными речевыми актами, вроде «Я объявляю это заседание открытым». Здесь мы имеем дело со своего рода творением ex nihilo, с высказыванием, которое, в силу провозглашения того, что оно провозглашает, создаёт определённую символическую конфигурацию, где нет причинной связи, которая бы к ней приводила. Другой вид провозглашения тоже обладает определённым перформативным измерением, но в том, что касается причинности и темпоральности, его функционирование более сложно. Возьмём, к примеру, признание в любви. Предполагается, что оно вытекает из чувств субъекта, однако оно не может быть просто сведено к выражению этих чувств. Нет простой логической или причинной связи между состоянием моих чувств и высказыванием «Я тебя люблю». Почему эти слова произносятся сегодня, а не завтра? И почему сегодня, а не вчера? Для этого высказывания нет правильного времени, для него всегда или слишком рано, или слишком поздно. Всегда есть какой-то скачок, связанный с переходом от наших чувств к признанию в любви. Этот переход никогда не линеен. Сказать, что в каждом признании в любви присутствует измерение лжи, не значит предположить нехватку искренности. Это значит, что признание в любви говорит больше и делает больше, чем просто описывает мои чувства. Можно сказать, что оно состоит из (более или менее) точного описания моих чувств и
Но давайте вернёмся к тому особому типу вежливой лжи, который тесно связан с понятием приличия. Конечно, приличие — это само по себе скользкое понятие. Оно не только варьируется от одной культуры к другой (так же как и в ходе истории в пределах одной культуры), оно также очень сильно зависит от нашего личного «чувства приличия». Но эти культурные и
Таким образом, можно сказать, что «культура лжи» во многом связана с возможной «непристойностью правдивости». Следующий вопрос, который, в таком случае, нужно рассмотреть, заключается в том, является ли непристойность понятием, по своей сути связанным с сексуальностью. Боденхаймер утверждает, что нет. По его мнению, связь между непристойностью и сексуальностью совершенно случайна и как таковая является продуктом определённых историко-культурных обстоятельств, которые ограничили сексуальность областью интимного. Он утверждает, что если непристойность определяется как раскрытие чего-то наиболее личного, «нашего собственного» (das Eigenste), то ясно, что сексуальность не отвечает этим требованиям, поскольку это что-то наиболее общее, или универсальное. Но у этого аргумента есть два недостатка. Он смешивает сексуальность с (эмпирическим занятием) сексом, а также не принимает в расчет универсальность, присущую непристойности. Почему независимо от того, каковы те наиболее личные и интимные вещи, которые предаются огласке (то есть независимо от того, что составляет, в каждом отдельном случае, нашу самую сокровенную суть), такое обнародование неизбежно вызывает эффект непристойности? Ответ, я считаю, заключается в том, что сексуализирован сам акт разоблачения как таковой. Сексуальная составляющая — которую мы не можем исключить из понятия непристойности — не имеет никакого отношения к содержанию скрытой вещи, внезапно подвергшейся разоблачению: она связана с самим разоблачением. Точнее, прохождение интимного или всё ещё скрытого объекта (будь то мысль, чувство или слабость) сквозь этот диспозитив разоблачения приводит к его сексуализации, так что — и здесь мы можем согласиться с Боденхаймером — самому объекту и не нужно быть сексуальным. Другими словами, это свойство речи (а следовательно, культуры и определённых символических конфигураций) — сексуализировать определённые вещи, в том числе сексуальность. Этот последний момент может показаться парадоксальным, но если мы рассмотрим вопрос о том, что отличает человеческую сексуальность от, скажем, животной или растительной, то не в том ли состоит их различие, что человеческая сексуальность сексуализирована? И разве не отсюда проистекает большинство наших сексуальных проблем (и удовольствий)? Это не значит, что вся сексуальность культурно (или символически) опосредована или «сконструирована». Скорее, это значит, что культура (или символический порядок) сама по себе уже сексуализирована. Здесь мы сталкиваемся с цикличностью, ответственной за то, что Фрейд называет das Unbehagen in der Kultur. Культура берёт начало в неком сексуальном тупике, она представляет собой ответ на этот тупик, но, отвечая на него, она производит новые тупики (требующие «культурного» ответа).
Структурный механизм публичного разоблачения, выставления напоказ производит очень распространенную фигуру такого рода сексуализированной/сексуализирующей рамки, или диспозитива. Вот почему, что бы ни попадало в эту рамку, оно наделяется особой чертой, требующей ответного действия. Будучи свидетелями такого рода разоблачения (нехватки или непредусмотренного объекта), возникшего вследствие высказывания голой правды, мы можем смущенно отвести взгляд; мы можем («вуайеристически») наблюдать за этой сценой краем глаза; мы можем открыто («садистически») наслаждаться производимым в другом расщеплением; мы можем делать вид, что ничего не замечаем. Но ни одна из этих реакций не будет нейтральной, или безучастной.
Как уже было сказано, высказывание голой правды может произвести эффект публичного разоблачения, а вежливая ложь может произвести эффект его избегания (или же сделать так, чтобы оно прошло незамеченным). Но это не значит, что культура — и её вежливая ложь — это нейтральный или «духовный» щит, который мы поднимаем в защиту от, скажем, непристойности. Культура работает в обоих направлениях: разоблачение (и его эффект непристойности) — это такой же культурный (или символический) феномен, как и вежливая ложь. То есть культура (более или менее эффективно) производит способы разрешения своих собственных структурных тупиков — тупиков, проистекающих из того факта, что культура берёт своё начало в сексуальной реальности, которую она пытается регулировать.
Перевод с английского Олелуш
Примечания:
[1] Miller, Jacques-Alain (1990) Microscopia: An Introduction to the Reading of Television, trans. Denis Hollier et al., in Lacan, Jacques (1990) Television, trans. Denis Hollier et al. (New York: Norton). P. xx.
[2] Лакан Ж. Телевидение. Пер. с фр. А. Черноглазова. М.: ИТДК «Гнозис», Издательство «Логос», 2000. С. 6.
[3] Miller, Jacques-Alain (1990). P. xxii.
[4] Фрейд З. «Я» и «Оно». Труды разных лет. Книга 1. Тбилиси: Мерани, 1991.
[5] Bodenheimer, Aron Ronald (1984) Warum? Von der Obszönität des Fragens (Stuttgart: Reclam).
[6] Pfaller, Robert (2014) On the Pleasure Principle in Culture: Illusions Without Owners, trans. Lisa Roseblatt (London & New York: Verso).
