Алима Бисенова. Колониализм и культура/язык
Каким образом осмысляется культурная и языковая ассимиляция постколониальных субъектов? Как проблематизируется незнание или отсутствие родного языка? Как проблема колониальных иерархий в отношении языков и культур преломлялась в советской, казахской и кыргызской литературе?
В лекции курса «(Пост)колониальные исследования» в рамках проекта «Ташкент-Тбилиси» доцент кафедры социологии и антропологии Назарбаев Университета Алима Бисенова рассматривает языковой конфликт в постколониальных обществах, a также вопросы мимикрии и постколониальной гибридности.
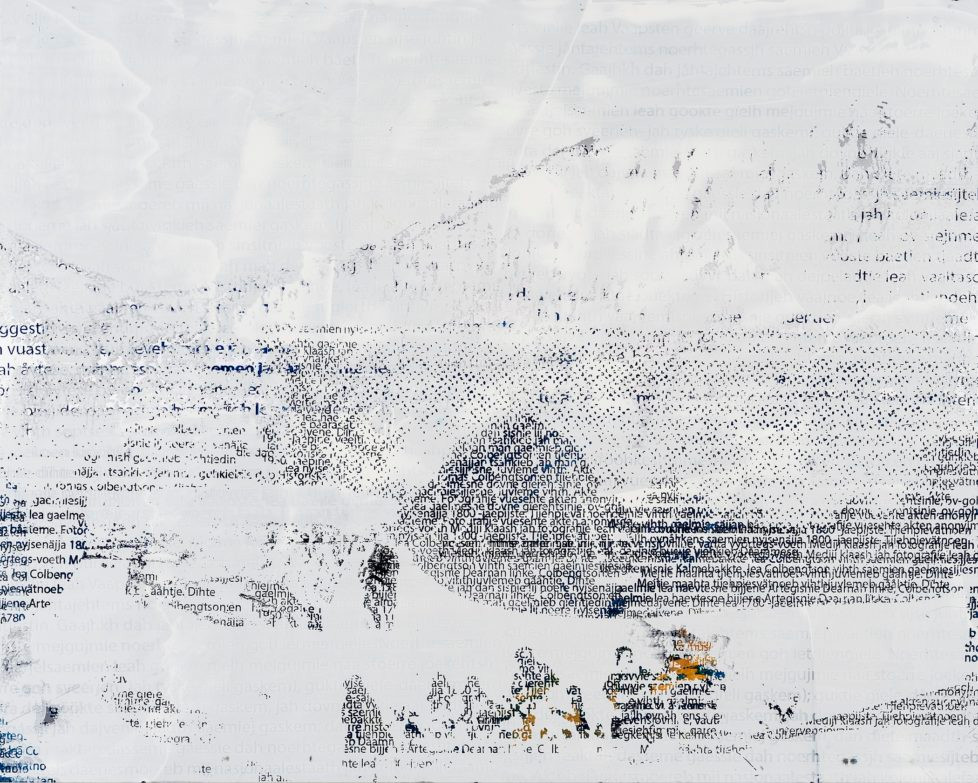
Сегодня передо мной стоит задача рассказать о нескольких постколониальных теоретиках языковой и культурной ассимиляции/аккультурации в колониальных и постколониальных ситуациях. Через 60 лет уже в постколониальном контексте те ситуации, которые описывал Франц Фанон (1952), анализирует и Рэй Чау (2014). Третий теоретик — Хоми Баба, мы обсудим его знаменитую книгу The location of culture (1994), раздел о мимикрии — концепте, которым пользуются для описания ситуации гибридности и амбивалентности. Затем речь пойдет о позднесоветской артикуляции колониальности именно в отношении подчиненных языков и подчиненных культур, а также о «тёмной стороне модерности» в советской (русской, казахской и кыргызской) так называемой «деревенской прозе». Мы обсудим конфликт «человека культуры» и «человека модернизации» в этой литературе. В последнюю очередь важно понять, как теория, которую мы обсуждаем, применима к нашей жизни сегодня. Мы поговорим о том, как колониальная травма и насилие переходят в постколониальную травму, а также иногда в насилие.
Первая глава книги Франца Фанона «Black Skin, White Masks» называется «Чернокожий и язык» (The Negro and Language). Автор связывает язык с расой — происходит так называемая расоизация языка. Фанон описывает колониальную ситуацию мартиниканцев или выходцев из французских Антильских и, шире, Карбских островов, их отношение к собственному языку на островах, далеко от Франции, и отношение к языку, когда они приезжают во Францию. Франц Фанон четко показывает, что колониальная языковая аккультурация и ассимиляция, изучение французского выходцами из Мартиники и с Антильских островов, французских Карибов происходят в результате четкой колониальной иерархии. Это не мультикультурализм, не взаимное культурное и языковое обогащение — то есть в колониальной ситуации языки делятся на победивших и проигравших, подчиненных. В ситуации Антильских островов, где чернокожие были когда-то рабами, происходит четкое разделение на язык хозяев и язык рабов. Приведу несколько цитат из этой главы:
«Каждый колонизированный народ — то есть каждый народ, оригинальная местная культура которого была подавлена и похоронена, народ, которому был навязан комплекс неполноценности, — попадает в ситуацию прямого контакта с языком цивилизации, с культурой метрополии. Чем лучше колонизированный усваивает культурные нормы метрополии, тем больше он отдаляется от своих джунглей. Отказываясь от своей чернокожести, от своей принадлежности ж джунглям, он становится белее».
То есть это не взаимодействие, не взаимообогощение — это намного более негативный феномен, потому что чем больше ты приближаешься, тем более ты хочешь отдалиться и отдаляешься от своей культуры, придавая различную ценность собственной культуре и культуре метрополии.
«Антильская буржуазия никогда не говорит на диалекте разве что со своей прислугой. В школах Мартиники учат презирать местные наречия. Их называют креолизмами. В некоторых семьях употреблять диалект запрещено, а матери называют детей «бандой малолеток» за его использование».
«Говорить на языке — значит принять мир, принять культуру. Антильский чернокожий, который хочет быть белым, будет тем белее, чем лучше он овладеет инструментом культуры, то есть языком. Я помню, чуть больше года назад в Лионе, после лекции, на которой я проводил параллель между негритянской и европейской поэзией, знакомый француз сказал мне с восторгом: «В глубине души ты белый». Моя способность исчерпывающе исследовать проблему, пользуясь языком белого человека, принесла мне почетное гражданство».
«Учитывая исторический контекст, очевидно, что чернокожий хочет говорить по-французски потому, что этот язык служит ключом, который может открыть двери, вход в которые еще пятьдесят лет назад бы для него запрещен. Антилец, соответствующий нашему описанию, будет стремиться освоить все тонкости, все изыски языка, будет искать всевозможные средства доказать самому себе, что он достиг желаемого уровня культурности».
Здесь описывается ситуация антильского языка — креольского языка на основе французского. Из него легче сделать «неправильный» диалект французского, языка, на котором «неправильно» говорят жители этих островов. Избавившись от языка, людям, наверное, сложнее к нему вернуться — заново начать говорить на нем. Франц Фанон описывает, как люди стремятся выучить французский язык, потому что он сразу открывает для них целый мир: и пространственную, и социальную мобильность. Знание французского языка в этой иерархии ценностей выше, чем говорение на родном языке, на родном диалекте.

Эту же тему, цитируя Фанона, развивает Рэй Чау — постколониальный теоретик из Гонконга, работавшая в американской академии, в университете Брауна, китайский культуролог (она пишет также о китайской литературе и кинематографе). Рэй Чау говорит о расоизации как о столкновении с языком/акцентом. Автор сравнивает желание избавиться от акцента с желанием отбелить кожу. Фанон описывает много случаев, когда люди пытаются обелиться физически через связи с белыми (чтобы их дети были белее), цветная женщина пытается стать белее через белого мужчину и т.д. Рэй Чау также цитирует Обаму, который описывает случай, когда люди проводили операцию для того, чтобы стать белее, но затем страдали от побочных эффектов. Ставится знак равенства между собственной расовой колониальностью, расовым подчинением и языковым подчинением. То есть как и обесценивание собственного цвета кожи, происходит обесценивание собственного языка, собственного акцента. В предисловии Фанон пишет, что принять акцент мартиниканца для французов невозможно, в то время как они спокойно принимают акцент русского, немца или чеха. Он пишет: было бы хорошо, если бы мы просто были как чехи, говорили с акцентом как чехи, и нас бы принимали просто как иностранцев, а не как выходцев с Мартиники, как чернокожих и т.д. Хорошо быть просто иностранцем, но чернокожие с Мартиники — не просто иностранцы, они как бы подчинённые.
Рэй Чау проводит дальше аналогию между описанием Фанона того, как его соотечественники с Мартиники и с Антильских островов приезжают во Францию и работают над собой, пытаются поставить французскую букву «р», и между проблемой индийского акцента в
В отрывке книги «Не как на родном языке», переведенном на русский язык, Рэй Чау приводит ситуацию говорения «не как на родном языке». Индийцы в ситуации колл-центра говорят не на родном языке, работают в неестественное время, используют придуманные имена, пытаются говорить не так, как говорят в жизни. Что происходит с человеком, когда он пытается быть кем-то, кто он не есть — мимикрия и образование, которое люди получили в колониальной ситуации. Рэй Чау приводит постколониальные дебаты 1970-1980-х годов в африканской литературе между известным нигерийским писателем Чинуа Ачебе (1930-2013), автором известного романа «Things Fall Apart», и Нгуги Ва Тхионго (1938-), кенийцем. Первый написал роман на английском, но несколько иначе: он говорил о том, что видоизменил английский язык, то есть апроприировал его, и пишет на нем по-другому. Чинуа Ачебе рассуждает следующим образом:
«Если меня спросят, может ли африканец выучить английский язык настолько хорошо, чтобы создавать на нем литературные произведения, моим ответом будет безусловное «да». Если же меня спросят сможет ли он когда-нибудь говорить на английском как на своем родном языке, я отвечу: «Надеюсь, что нет»».
Чинуа Ачебе, «Африканский писатель и английский язык»
Кажется, Чинуа Ачебе говорит здесь о том, что африканец, даже если он прекрасно владеет английским на том уровне, чтобы написать роман, не должен считать его родным языком. Он должен признать, что это не идеальная ситуация — прекрасное владение английским языком — он должен стремиться изменить эту ситуацию. Он не должен считать английский язык собственным языком, но он должен его использовать для творчества. У Нгуги Ва Тхионг'о другой взгляд:
«Язык, на котором африканский ребенок получал образование, был иностранным. Язык книг, которые он читал, был иностранным. Язык его становления был иностранным. И даже мысли его принимали отчетливую форму иностранного языка… Ребенок находился под воздействием культуры, бывшей продуктом внешнего по отношению к нему мира. Чтобы увидеть себя самого, он был вынужден смотреть на себя извне».
Нгуги Ва Тхионг'о, «Язык африканской литературы»
Фанон тоже описывает эту проблему: он всё время смотрит на себя глазами белого человека, он не может избавиться от этого взгляда, найти себя на собственной территории.
У него нет собственной территории ни в плане воображения, ни в плане пространства, ни в плане языка как территории
Рэй Чау пишет:
«…по моему опыту, колониальное образование представляет собой несколько более сложный процесс, чем одно лишь обучение ясному письму (без различия в отношении того, хорошо это или плохо), так как оно практически неизбежно влечет за собой растянутый во времени языковой конфликт, навязывая язык колонизатора как официальное средство коммуникации и принижая значение языка колонизированного как устаревшего или избыточного. Последний, как я продемонстрирую в дальнейшем, не исчезает полностью даже в условиях самого жестокого колониального режима, но, как правило, сохраняется по фрагментированном виде и передается в рудиментарных или анахроничных формах: в произведениях народного творчества, мифах, идиомах, играх слов, элементах воспитания и ежедневных актах общения».
В своем известном эссе, описывающем отношения между африканскими писателями и английским языком, Чинуа Ачебе указывает на эмоциональные и этические проблемы, с которыми сталкиваются участники процесса постколониального образования. Это авторы, которые жили в постколониальной Африке — перед ними эти вопросы стояли остро в 1970-1980-х годах и позже. «Основной вопрос здесь заключается не в том, могут ли африканцы писать на английском, а в том, должны ли они на нем писать. Правильно ли отказываться от своего родного языка в пользу чужого? Не является ли это страшным предательством, чреватым чувством вины?»
Если ты выбираешь писать на английском или французском, не предаешь ли ты собственную культуру? У самого Ачебе на этот вопрос имеется четкий ответ: «Для меня такого выбора не стоит. Этот язык был мне дарован, и я хочу использовать его на благо людей» [Achebe 1994: 434). Да, язык не родной, но он дарован, Ачебе говорит о том, что надо точно понимать, что это не родной язык, что ему дана такая гибридность (он еще не знал, что Хоми Баба напишет о ней), и он должен пользоваться ею для собственной выгоды. Для Ачебе колониальное образование ассоциируется не столько с ясным стилем письма, являющимся программным инструментом идеологического подчинения в руках колонизаторов, сколько с осознанием выгод данного смешанного языкового контекста для таких же, как он. По логике Ачебе, африканский писатель не должен извиняться за использования английского, не должен испытывать стыда, стремясь таким образом выразить свой личный, пережитый опыт и поделиться им с широкой публикой:
«Я считаю, что английский язык способен передать всю тяжесть моей африканской жизни. Но это должен быть другой английский, приспособленный к новому африканскому окружению, оставаясь при этом прочно связанным со своими корнями» [Achebe 1994: 434].
Они соглашаются с тем, что язык — это не просто средство коммуникации. Иными словами, язык как носитель информации не является незапятнанным, невинным, лишенным исторических коннотаций, но становится средством, которое африканские писатели могут адаптировать (то есть трансформировать, изменив его назначение), чтобы иметь возможность обратиться к читателям по всему миру.
Далее цитата Нгуги Ва Тхионг'о описывает очень знакомую для меня ситуацию, о которой постоянно говорят. Язык — это не просто средство коммуникации, в нем накапливаются знание и ценности, и как бы моральный долг носителя языка — передать язык как наследство, ценности и культуру.
«Человеческое общение — основа развития культуры. Если мы многократно производим одни и те же действия в одних и тех же обстоятельствах, если такие действия сходны даже в своей изменчивости, рано или поздно это приведет к выработке определенных схем, движений, ритмов, привычек, точек зрения, опыта и картины мира. Все это будет передано по наследству следующему поколению и ляжет в основу действий его представителей по отношению к природе и к самим себе. Это постепенное накопление ценностей со временем станет непререкаемой истиной, формирующей концепции правды и лжи, добра и зла, красоты и уродства, смелости и трусости, великодушия и грубости в их внутренних и внешних отношениях. Ценности являются основой идентичности людей, ощущения их индивидуальности в контексте всего человечества. И все эти ценности мы можем найти в языке. Язык — это культура, это банк памяти коллективного исторического опыта нации. Культура, по большому счету, неразрывна с языком, который способствует ее рождению, развитию, сохранению, оформлению и не в последнюю очередь передаче от одного поколения другому» [Ngugi 1994: 440-441].
Естественно, он ставит вопрос в моральных категориях. Если Чинуа Ачебе пишет на английском, то он как бы уходит от этого «морального» долга передачи языка, а Нгуги Ва Тхионг'о как представитель своего народа видит долг в передаче культуры.
Рэй Чау пишет об этом:
«На мой взгляд, положения Нгуги, несмотря на лежащие в их основе националистические предпосылки, не теряют своей актуальности прежде всего благодаря центральному мотиву, к которому регулярно возвращается писатель, мотиву утраты. Постколониальное пространство в этом смысле превращается в пространство меланхолии, где колонизированный страдает
Нгуги описывает свою хорошую жизнь в африканской деревне, ее гармонию и красоту, затем он пошел в колониальную школу (кажется, в 1938 году), где его стали учить на английском языке, и первозданная гармония закончилась. И это травма — многие проходили через нее, в том числе в Казахстане. Описывают: я у бабушки всё время говорил по-казахски, а потом меня отправили в русскую школу, и всё, кем мы стали? Тема утраты, которую нужно восстановить — и возможно ли ее восстановить? Это надрыв, Рэй Чау говорит о том, что, может быть, даже невозможно — потуги напрасны. На Антильских островах, на Гаити многие говорят на креольских языках. В ситуации, когда это отдельный собственный язык — допустим, казахский или татарский — не думаю, что всё потеряно и утрачено.
Еще один теоретик, который был переведен в первом номере НЛО этого года — это Хоми Баба, доклад «Мимикрия и человек. Двойственность колониального дискурса». Индийские постколониальные теоретики пишут очень сложно, но я читала этот текст и на английском, и на русском. Попытаюсь объяснить простым языком, что он имеет в виду, что это значит.
«В рамках конфликтной структуры колониального дискурса, описанной Эдвардом Саидом как напряжение между всеобъемлющим синхронным видением доминирования (требованием идентичности, стабильностью) и противостоящей ему исторической диахронией (изменением, различием) [Said 1978: 240], мимикрия представляет иронический компромисс. Перефразируя предложенное Сэмюэлом Вебером определение маргинализированного образа кастрации [Weber 1973: 1112], мимикрию можно сформулировать как потребность в преобразованном, но узнаваемом Другом как субъекте различия, почти сходном, но не полностью сходном. Иными словами, дискурс мимикрии выстраивается вокруг двойственности; чтобы быть действенной, мимикрия должна непрерывно создавать эффекты смещения, избыточности, различия».
Мимикрия существует и в естественном мире: хамелеон мимикрирует под окружающую среду, какие-то виды мимикрируют под другие виды — для выживания. Получается, колониальный субъект для того, чтобы выживать, как бы подчиняется цивилизаторской миссии метрополии: мы должны изучить язык метрополии, мы согласны на колониальное образование. И колониальным субъектам надо мимикрировать, чтобы выжить, и цивилизаторская миссия тоже предполагает, что нужно обучить колонизованных туземцев языку и иногда религии. Но Хоми Баба говорит о том, что цивилизатор не готов видеть Другого такого же, как он: французы оказались не готовы на то, что африканец с Мартиники, как Фанон, такой же, как они, и, может быть, лучше их — должно оставаться различие, смещение. С одной стороны, мимикрия — это цель колониального проекта (цивилизирующая роль метрополии), а с другой стороны, она может быть использована для, наоборот, антиколониальной или постколониальной борьбы. Хоми Баба пишет:
«Мимикрирующий человек — следствие извращенной колониальной имитации, в рамках которой англизированность подчеркнуто не идентична английскости. Мимикрия — одна из составляющих явления, охарактеризованного Андерсоном как «внутренняя несовместимость империи и нации» [Anderson 1983: 88—89]».
Хоми Баба ссылается на книгу Андерсона о билингвизме, зародившемся в империи. Часто билингвы знали русский лучше, чем родной язык. Если человек очень хорошо владеет русским, это не значит, что он не может быть украинским или казахским националистом. Мимикрия ни о чем не говорит. «Мимикрия расставляет знаки расового и культурного приоритета таким образом, что «национальное» становится неассимилируемым».

Далее речь пойдет о позднесоветской артикуляции колониальности в советской, русской, казахской и кыргызской деревенской прозе. Мне кажется, что вопросы утраты культуры, языка, мимикрии поднимаются и в русской, и в казахской, и в кыргызской деревенской прозе. В статье Марка Липовецкого «Советское и постсоветское трансформации сюжета внутренней колонизации» говорится о конфликте человека власти и человека народа. В деревенской прозе, как мне кажется, конфликт человека власти и человека народа становится конфликтом человека модернизации и человека культуры. В известной повести Владимира Распутина 1976 года «Прощание с Матёрой» впервые советский проект модернизации ставится под вопрос. На сибирской реке есть остров Матёра, на реке строится гидроэлектростанция — необходимо залить этот остров, уничтожить кладбище, переселить бабушек и тех, кто остался там жить, на новое место. Эти бабушки являются носителями своей культуры, модернизация им не нужна, они любят свои самовары, деревянные дома и этот остров. Модернизация отнимает у них больше, чем даёт. У многих героев Шукшина крестьянская культура — с точки зрения Александра Эткинда можно сказать, что крестьяне были колонизированы: их культура и образ хозяйствования были объявлены неправильными и отсталыми. Их
У казахстанских и кыргызских советских писателей это культура не убывающая
Допустим, у Чингиза Айтматова в «И дольше века длится день» появляется сюжет о манкурте. Есть легенда о манкурте — на него надевают верблюжий желудок, и он никого не помнит, убивает свою мать. Но основной сюжет романа простой: умер Казангап, люди собираются, и перед ними стоит задача его похоронить. Можно похоронить, не осложняя жизнь, а можно похоронить, как завещал сам Казангап: согласно традиции на родовом кладбище, которое находится за полигоном, на которое надо долго ехать, на которое, возможно, не пропустят. Сын Казангапа, Сабитжан, говорит: зачем всё усложнять, почему нельзя хоронить рационально, эффективно и без особых сложностей. Сабитжан четко показан как манкурт — он отказывается нести груз культурного наследия в пользу сиюминутных модернизационных выгод. Этот груз несет простой маленький человек Едигей, который живет в этой деревне — для сообщества Едигей как человек культуры важнее, чем Сабитжан, технократ и бюрократ, который готов вписаться в любую ситуацию.
Мотив боли об утраченной культуре появляется намного раньше еще в казахской деревенской прозе: есть известная повесть 1969 года «Смерть Тазы» (Мухтар Магауин, 1969). Тазы — это казахская борзая, которую используют для охоты. Повествование идет от собаки — подчиненного. Она не может выжить в ситуации, которая изменилась не в её пользу — некому с ней заниматься, за ней ухаживать, ходить с ней на охоту. В советском казахском ауле людям некогда выезжать на охоту, тренировать собаку, шить себе малахаи — у них есть товары массового производства: ватники, шапки. В конце концов, Тазы умирает. В этой деревенской прозе — и русской, и казахской, и кыргызской — вопрос утраты культуры и языка ставится ребром. Не знаю, насколько произведения Распутина и Шукшина вызвали резонанс, но произведения Айтматова получили огромный отклик. Я помню, как в конце 80-х, да и в 90-х, и сейчас это продолжается — в казахской и кыргызской среде некоторых людей стали называть «манкуртами». Разговор о модернизации и сохранении культуры, который идет в африканской литературе 1980-х годов, оказывается актуален и в русской, и в кыргызской, и в казахской литературе. В Казахстане и в Кыргызстане разговор о манкуртах становится важным общественным вопросом.
Как колониальные травма и насилие переходят в постколониальную травму? Позднесоветское время — это уже постколониальное время, когда уже нет организованного насилия (как при Сталине или раньше), но в это же время появляются произведения с сильным постколониальным посылом, который ставит под вопрос весь проект советской модернизации. Насколько это оправданно? Получаем ли мы столько же, сколько отдаем? Насколько для нас это равнозначный и справедливый обмен? Если колонизация — насилие: люди должны были вписываться в модернизационный проект, входить в колхозы, менять образ жизни, — то как это исправить? Как не вырастить манкурта в
Как мне кажется, здесь появляется интимное семейное культурное насилие. Объясню на собственном примере. Мой отец вырос в Челябинской области, к моему рождению в середине 70-х там уже не было языковой среды. Моя мама — наполовину русская, материнский язык — русский. Встает вопрос: как научить ребенка казахскому языку? Меня отправляют в аул. Я помню, как не хотела оставаться там, как долго бежала за машиной в этой пыли. И все меня жалели: «Алиму куда отправили… как так можно?» И даже сейчас детей отдают в казахские школы, дети мучаются — родители говорят на русском. Один знакомый вырос в
В постколониальной ситуации происходит переписывание истории. Не так давно я слушала выступление одного известного казахского историка о том, что наше отношение к Золотой Орде не может быть таким же, каким оно было в Советском Союзе, потому что весь сегодняшний Казахстан входил в
В постколониальной ситуации происходит изменение культурных колониальных иерархий — как языковых, так и жанровых. В советское время создавались национальные опера, балет, роман, академия наук. Нариман Шелекпаев в своем недавнем выступлении говорил о советской опере и отметил, что в постсоветское время опера не создается. Да, опера не создается, но сколько всего происходит в
Колониальная травма уже описывается и как
